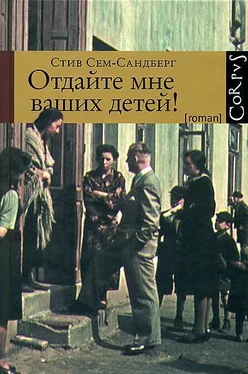Буханка хлеба на черном рынке стоила триста марок, но так как продавцы не отваживались выходить на улицу в царивший той зимой лютый мороз, хлеб попросту не продавался. В кладовой на нижней полке лежала пара помороженных картофелин с задубевшей кожицей. Вот и вся еда. Каждое утро Вера вставала, разводила крахмал в едва теплой воде и сыпала сверху ржаные хлопья. Этим «супом» она кормила Маман. Если бы отцу не удалось устроить жену в клинику на улице Мицкевича, они бы вряд ли выжили. Маман, лежа в клинике, получала хотя бы бесплатный суп и хлеб, и если что-то оставалось, то и Вере могла перепасть миска супа. В благодарность за еду ей приходилось целыми днями сидеть с машинкой «Олимпия» на коленях, помогать отцу вести истории болезни и заполнять регистрационные карты. Доктор Шульц, по недвусмысленному приказу Румковского, принял на себя ответственность не только за бывшую туберкулезную клинику, но и за бывшие поликлиники на Дворской и за сотни пациентов, теснившихся теперь на пространстве, где раньше стояло не больше десяти коек. Даже в подвале и сырых подвальных прачечных лежали больные, а коридоры были забиты теми, кого называли дневными пациентами (хотя они лежали здесь круглые сутки) — людьми, болезни которых не признавали настолько серьезными, чтобы выделить несчастным койку: заражение крови, хроническая диарея, опухшие от голода или парализованные ноги, обморожения. Вера слышала, что таких больных бывает сотни в неделю; большинство пострадавших отправляли на ампутацию, независимо от того, нужна она была или нет: профессор Шульц считал, что сепсис — вещь значительно более опасная, а при нынешних обстоятельствах у него нет средств, чтобы справиться с заражением.
В отделении доктора Шульца по соседству с Маман лежал пожилой мужчина, лысый, как колено, с широкими, все еще черными бровями, которые сходились как у зверя, когда он к кому-нибудь присматривался.
Медсестры звали его «рабби Айнхорн» или просто «господин раввин»; они двигались возле его койки с величайшим почтением. Несколько раз в день рабби Айнхорн вынимал талес и тефиллины, которые хранил вместе с книгами в потертом чемоданчике. Он был так слаб, что едва мог сидеть в койке, и Вера помогала ему завязать ремешки тефиллина на руке и закрепить кожаную коробочку на лбу; книги он требовал подать немедленно и не хотел, чтобы потом Вера или кто-то еще прикасался к ним, — он лежал в постели, и книги давили на его чахлую грудь.
Вера часто замечала, что он наблюдает за ней: как она вынимает лист или заправляет в машинку новый, выстукивает журнальную запись или адрес.
Он захотел узнать, где она научилась такому похвальному усердию.
Вера ответила, что в коммерческой гимназии в Праге она прошла курсы стенографии и машинописи. Рабби Айнхорн пожелал узнать, на каких языках она говорит, и Вера ответила, что может сносно изъясняться по-английски и по-французски, но, к сожалению, не на идише или иврите; тогда он сказал, что мог бы помочь ей, достал книгу и прочитал несколько молитв, сначала на иврите, потом по-польски, одновременно объясняя, что он читает. Дальше они читали молитвы вместе. Он читал, Вера повторяла. Потом рабби Айнхорн громко, звучно сетовал на ее невежество: «Вы, молодежь, словно заходите в комнату и жалуетесь, что там темно и ничего не видно, хотя свет пронизывает каждый уголок».
Но рабби все же выучил Веру кое-каким словам на новом языке. Он показал ей, как выглядят буквы, как они читаются, как складывать их вместе и как разъединять, чтобы получился смысл. Трех простых слогов оказывалось достаточно, чтобы создать целый мир. Одним из множества слов на иврите, которым он ее выучил, было — panim. Слово, первоначально означающее «лицо», в зависимости от того, как его расчленять и соединять, могло означать что угодно: от «стоять впереди», позволить «подвергнуть себя чему-то» или «предстать перед» Всемогущим.
«И вы, фройляйн Шульц, наверное, понимаете, что молиться — не значит отбарабанить слова из книжки; это значит повернуть свое лицо к Господу, чтобы он своим внутренним светом мог озарить каждое святое слово…»
Однажды, когда они вместе читали, рабби схватил Веру за руку и спросил, может ли она помочь ему, когда придет время. По глупости она подумала — он хочет, чтобы она помогла ему умереть. Но когда она намекнула на это, Айнхорн энергично замотал лысой головой. Его желание было гораздо определеннее. Он предупредил, что она получит письмо. И — чуть позже: не окажет ли фройляйн Шульц ему услугу и не примет ли содержащееся в нем предложение, хотя бы и после долгого размышления?
Читать дальше