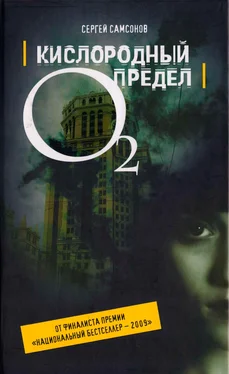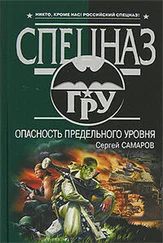Мартын осторожно спускает ноги с постели. Все еще пребывая в сильном возбуждении, он встает над своей византийкой и с особого рода горделивой усмешкой отмечает, что и в полной темноте способен различить ее лицо — вплоть до мускула гордецов, до колумеллы — и что, как видно, нет другого человека в мире, который с тем же правом, что и он, Нагибин, может претендовать на монопольное владение Зоиным образом. Он может воспроизвести этот образ мгновенно и продолжительное время глядеть на мир, на вещи, на людей как будто сквозь полупрозрачную, предельно верную, приставшую к сетчатке голограмму любимых черт.
Да, верно, зрение Мартына таково, что на каждое лицо наброшена как будто миллиметровая сетка; да, верно, что ему хватает полувзгляда, чтобы зафиксировать в своей профессиональной памяти орбиты, веки, скуловые кости, носогубные и ротоподбородочные складки, увидеть мышцы, фасции, прослойку, все совершенство и, напротив, всю топорную сработанность иной увядшей или юной физии. Да, верно, что Мартын давно привык вести ножом ли, пальцем ли по женскому лицу с бесстрастной точностью и терпеливым равнодушием картографа, который по живому вычерчивает абрисы досконально изученных материков.
Но все-таки, и это несомненно: его Палеолог — другое; Мартын не просто вызывает в памяти объемный, яркий, но все-таки статичный призрак Зои, а ощущает, осязает, обоняет ее всю — в движении, в смене гримас, со всеми ее непроизвольными ужимками и беззастенчивыми зевками; вплоть до лопаток, ходящих под его руками, вплоть до маленьких, горящих от бесстыдства пяток, которыми она играет у него в паху. Она неизменно видится Нагибину целой и в целом; облик ее не членится, не сегментируется, невозможно скользить по ней взглядом, переходя от одной «части» к другой и каждую оценивая в отдельности. Когда Мартын увидел Палеолог впервые, то поразился тому, что ее невозможно оценивать по степени приближения к идеалу. Идеала — не было. В мире не существовало никого, кто был совершеннее Зои, и никого, кто был ее уродливее.
Нагибин видел многих, сотни, тысячи женщин, красивых утонченной красотой, чьи лица были редчайшими плодами морфогенетической случайности и каждое — диковинным цветком, произросшим в диком буйстве межэтнических браков или вызревшим в оранжерее, где блюдется чистота национальной крови; Мартын видел множество сексуальных эрзацев и истинных сексуальностей, Мартын знал толк в классических пропорциях и прелестных частных случаях отклонения от канона; Мартын со многими был близок, да, действительно, до некоторой избалованности, но когда на этом фоне появилась Палеолог, то весь его отлично сбалансированный оценочный аппарат отказал мгновенно, начисто и окончательно — как обычный бытовой термометр на дне Марианской впадины.
Нагибин смотрит на нее, в секунду постигая, что расстояние от козелка до нижнего края ничего не значит, потому что вот эти глаза, ясно-синие, доверчивые и безжалостно пронзительные, отменяют все пропорции и съедают все лицо, так, как это происходит — да простится Мартыну кощунство — на старинных иконах, где лицо есть только обрамление взгляда, производное от зрения-свечения. С той лишь разницей, с тем обратным побуждением, что ты не возводишь молитвенно очи, а торопишься зацеловать, затискать эту вот девчонку и единственным доступным человеку способом уничтожить вашу всякую, малейшую отдельность друг от друга.
В прихожей электронные часы на подзеркальной тумбе показывают ноль восемь двадцать пять. Сна ни в одном глазу, и несмотря на три операции, сделанных им накануне, Мартын ощущает лишь бодрость и даже непростительный избыток нерастраченных сил. Он толкает дверь в ванную, щелкает выключателем, на секунду зажмурившись от резкого света, и справляет малую нужду, отчего-то вспомнив, как когда-то в детстве он соревновался с пацанами, кто струей оставит на кирпичной стенке гаража самую высокую отметку. Встает под душ и пять минут выдерживает натиск ледяной воды, потом включает теплую и, оторвав немного студня от живой, как медуза, желейной мыловой подушки из морских водорослей, совершает ежедневно — банальные гигиенические процедуры. Мартыну тридцать семь, и при самом пристрастном взгляде со стороны, при самом скептическом отношении к себе все же можно сказать, что Мартын почти не изменился по сравнению с юными летами — ничуть не располнел, «не отрастил мамон», как выражается Шлиман, похлопывая себя по выдающемуся «пивному» животу и вспоминая о том, какой жердиной он был в студенческие годы. Есть множество людей, которые не вылезают из спортивных клубов, но при этом все равно выглядят развалинами или тюфяками, а такие редкие счастливцы, как Мартын, могут ничего не делать, оставаясь воплощением рекламного здоровья, вызывая зависть завсегдатаев однообразных роликов о пребывании вечно молодого самца на гребне океанской волны.
Читать дальше