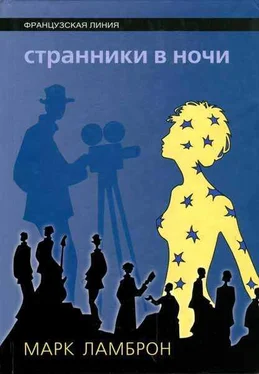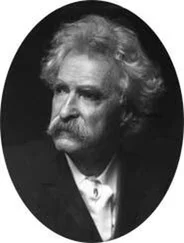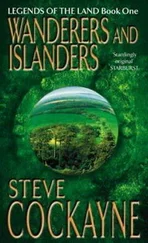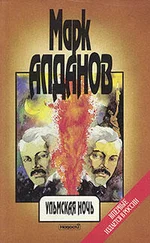— Какой же вывод следует сделать из этого?
Мальро задумчиво взглянул в окно.
— Вывод вот какой: Рифеншталь, Монфред или Кусто с их летучими рыбами, Линдберг с его орангутангами, немец из Лхасы с его монгольскими яками всегда будут предпочитать царство природы духу законов. Среди голубых акул или среди белых медведей им приходится изведать вершины и пропасти, ощутить свою одинокую избранность, которая недоступна мелким людишкам: это путешествие Зигфрида по Рейну. Ведь совершенно очевидно, что рыба-пила не знакома с идеями Монтескье, а мурена не читала Кондорсе. Впрочем, мурены вообще имеют предрасположенность к нацизму: их кормилец Тиберий им дороже, чем рабы, которых они пожирают. Так-то. Все эти примеры стали для меня прививкой от чрезмерного увлечения жизнью на природе. И когда я вижу, как юные калифорнийцы читают Германа Гессе и выращивают маргаритки, то — пусть даже это происходит в стране Уолта Уитмена и Дейви Крокета — я спрашиваю себя: не предпочтут ли они оленей и гризли общению с людьми? Вот в чем все дело.
Он замолк. Чем дольше он говорил, тем лихорадочнее его руки, руки безумной кружевницы, плели и расплетали в воздухе невидимые узоры. Бабочки все время атаковали его.
Мне вдруг показалось, что я перенесся куда-то далеко. Мрачная и таинственная атмосфера восточного гадания, которая вдруг возникла здесь, среди фресок эпохи Регентства, напомнила мне одну давнюю встречу. В пространстве-времени разверзлась дыра. Правда, в кабинете министра не было ни попугаев, ни каменного Будды, а на заваленном папками письменном столе не лежали карты таро. Но я не мог не вспомнить гадалку из Шолона. Прошло тринадцать лет — и я вновь слышу предсказание. Неужели мне суждено жить от оракула до оракула?
— Молодые калифорнийцы, которых вы упомянули, выступают против войны во Вьетнаме, — сказал я, стараясь не выдать волнения. — Но ведь вы в молодые годы тоже были против присутствия западных держав в Индокитае…
Мальро машинально провел рукой по макушке, словно поправляя несуществующую прядь волос. Когда я произнес «Вьетнам», мне показалось, будто я бросил мяч и морской лев подхватил его носом. И вот мяч завертелся.
— Посмотрите, как подействовал на нас зов Востока в последние двести лет. Христианское учение о спасении души превратилось в мифологию спасительной экзотики. Любопытно, что этот процесс развивается в двух аспектах, абсолютно независимых друг от друга: ведение империалистических войн и внутренняя жизнь человека. Возьмите первых колонизаторов, лорда Корнуоллиса или Шангарнье. Несомненно, эти люди были уверены, что завоевывают на Востоке новые герцогства, они сражались в Аннаме или на Брахмапутре так же, как сражались крупные феодалы в XII веке. В этом смысле империализм, как и антиимпериализм, — дело семейное. То, что колонизаторы совершили во имя западной идеи величия, антиколониалисты оспаривают во имя западной же идеи справедливости. На Востоке мы остаемся в своем кругу. Когда мы с Моненом в 1925 году опубликовали очерк «Индокитай в цепях», нашим заклятым врагом был губернатор, генерал Коньяк. Это был франко-французский конфликт. Но тут был один нюанс, на мой взгляд, совершенно новый: нас вдохновляла мысль о моральном превосходстве покоренных народов. В этом свете то, что мы наблюдаем сейчас — протесты против войны во Вьетнаме или симпатии к маоистскому Китаю, — нисколько не кажется мне удивительным. Восхваление дядюшки Хо или китайских хунвейбинов, распространенное среди нынешней молодежи, вполне созвучно тому безоглядному доверию, которое я в 1925 году заранее готов был оказать участникам движения «Молодой Аннам». Знаете что на самом деле означает вся эта мистика паназиатской освободительной борьбы? Что Бог умер. За восторженным поклонением студентов Сорбонны и Калифорнийского университета Мао Цзедуну, на мой взгляд, стоит не Маркс, а Ницше. Да, Бог умер, и теперь искупления надо ждать не с небес, а от Сына Неба. Именно это я называю мифологией спасительной экзотики…
Мальро поднес руку ко лбу, словно желая вытереть пот. Он перевел дух — и я тоже. Теперь, когда он говорил, его руки будто взмахивали невидимой косой, отбрасывая на землю срезанные колосья. Казалось, в нем тлеет фитиль, от которого каждую минуту взрывается новый бочонок пороха. Я понимал: такая напряженная работа ума не может не сказаться на нервах — так завоеватель взимает дань с побежденного. Его сотрясала дрожь, точно полковника, пристрастившегося к опиуму; казалось, внутри у него прыгает резиновый мячик, ударяясь о ребра. Он видел. Я опять был в Шолоне.
Читать дальше