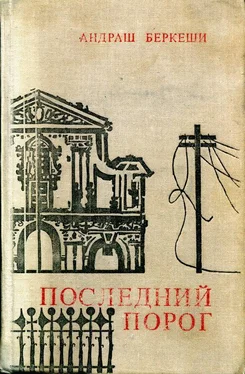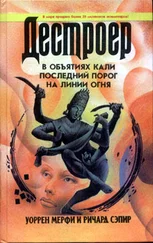Шульмайер внимательно посмотрел на журналиста. Ему показалось, что Бернат даже побледнел. Старик, конечно, обеспокоен, хочет знать, почему он молчит и какое именно примет решение. Майору внезапно пришло в голову, каким замечательным сотрудником был бы для него Бернат, работать с ним — одно наслаждение, они превосходно понимали бы друг друга. Шульмайер закурил.
— Господин доктор, почему вы решили, что я могу помочь вашему другу?
У Берната был еще один козырь, который он не открывал до времени. Он хранил его на крайний случай.
— Милана Радовича может вызволить из гестапо только человек, которому Рейнхард Гейдрих полностью доверяет. Этот человек — вы, майор Хорст Шульмайер! Я думаю, что в интересах Гейдриха выполнить просьбу человека, внедренного им в абвер. Выражение «внедренного» я мысленно ставлю в кавычки.
Бернат заметил, как задрожали пальцы майора, в которых тот держал сигарету. Шульмайер побледнел, даже губы его стали совсем белыми. Бернат отлично понимал, что майор стоит перед выбором. Решившись помочь освободить Радовича из тюрьмы, он полностью отдается на его, Берната, милость.
Молчание стало непереносимым. Бернату казалось, что прошло ужасно много времени с тех пор, как они сидят, глядят друг на друга и чего-то ждут. Они до предела разоткровенничались друг перед другом, раскрыли все свои тайны, состоявшийся между ними разговор связал их не на жизнь, а на смерть.
— Господин майор, — искренне заговорил Бернат, — я не намерен шантажировать вас. Предлагаю вам союз и братство по оружию. — А так как Шульмайер все еще молчал, журналист добавил: — Мариус Никль стар, он, чего доброго, и не доживет до краха нацизма. Может случиться так, что именно я сумею сказать где надо, что майор Шульмайер один из настоящих, честных немцев.
Майор понимающе кивнул:
— Собственно говоря, я должен был бы застрелить вас на месте и я в состоянии это сделать. Но я не убийца. Попытаюсь совершить невозможное. Если все-таки удастся вытащить Радовича из тюрьмы, он останется здесь, в Берлине?
— Нет. Его переправят во Францию.
Милан Радович в полуобморочном состоянии лежал на дощатых нарах. Прошло десять дней после его ареста, а случилось это в пятницу 24 августа. С тех пор он ни разу не брился. Худое лицо заросло густой щетиной. Он лежал с закрытыми глазами и улыбался — никак не мог отвыкнуть от этой проклятой ухмылки. Сыщики думают, что он над ними смеется. А ведь ему вовсе не до улыбок, плакать хочется до боли. И он сам не может объяснить, откуда взялась у него на лице эта отвратительная гримаса. Он знал, что находится в гестапо на улице Папештрассе. В прошлом году он внимательно осмотрел это огромное здание, и тогда у него мелькнула мысль, что бы он сделал, если бы и его приволокли сюда. Он даже сказал Анне, шедшей с ним рядом под руку:
— Как ты считаешь, можно отсюда сбежать?
— Не думаю, — ответила девушка.
Здание усиленно охранялось эсэсовцами в черных мундирах.
— Анна, — прошептал он и, увидев перед собой дорогое ему лицо девушки с пепельными волосами, почувствовал стеснение в груди.
Хорошо, что о существовании Анны даже Чаба не знает. О ней известно только Гезе Бернату, но старик вне всяких подозрений. Это, конечно, ничего не значит; он тоже все время был вне подозрений и вот провалился. Кто его выдал? Он потер заросший щетиной подбородок — движение вызвало боль: после допроса опухло плечо, быть может, разрыв мышц. А может, и нет. Скорее всего, плечо болит от напряжения — при разрыве мышц или связок он не смог бы даже пошевелить рукой. Мучила сильная жажда. Но эти проклятые эсэсовцы даже воды не дают. Милан провел языком по треснувшим губам. Сигареты тоже отобрали. Сразу видно, что гестапо не бюро по туризму, обеспечивающее своим клиентам все удобства.
С туризма мысли Радовича перескочили на поездку в поезде, во время которой он не заметил ничего подозрительного. Может решительно утверждать, что тогда хвоста за ним не было. С Клавечкой, согласно новому распоряжению, он встретился в Будапеште перед самым отъездом в обувной секции универмага «Париж». Разговор у них занял не более пяти минут. Тот сообщил ему о задании, сказал, что о результатах надо сообщать Цезарю. Потом они расстались. На другой день он сел в поезд, а задержали его почти на границе, хорошо еще, что не в Берлине. Анна встречала его на вокзале, но она, быстро оценив обстановку, поступила разумно: как ни в чем не бывало осталась на перроне. Милан никогда не забудет ее испуганных, широко раскрытых глаз.
Читать дальше