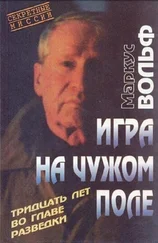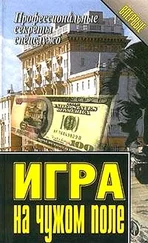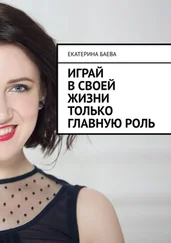Однако мало-помалу события начали представляться ему уже в ином свете. И сейчас за своим письменным столом, попивая маленькими глотками виски из бумажного стаканчика и пробегая глазами детективный роман (с полным пренебрежением к ученым фолиантам, выстроившимся на полках), он стал догадываться, что коготок у него увяз основательно, так что теперь, пожалуй, всей птичке пропасть.
Ясно: не для того же он вызывает к себе Блента, чтобы оставить все по-старому. Обещая поговорить со студентом, он тем самым как бы дал понять, что после этого разговора положение вещей изменится. Но, как он сам мило заметил ректору, трудно предположить, чтобы Блент, провалив зачет, сразу же приступил к изучению истории Англии. Следовательно, сейчас любой повторный опрос может закончиться опять-таки только провалом. И, таким образом, он, Чарльз Осмэн, навлек на себя необходимость сделать именно то, чего, по собственному утверждению, не хотел и не мог сделать и что на восхитительном жаргоне юного мистера Да-Силь-ва называлось «замять это дело».
И обиднее всего, что он сам поставил себя в это глупое положение. Ректор Нейджел (который вдруг стал казаться Чарльзу далеко не таким терпимым, зато куда более мудрым) позволил ему добровольно и по собственной инициативе сделать то самое, что и требовалось ректору Нейджелу. Не оказав ожидаемого нажима, он дал Чарльзу шлепнуться носом в лужу с победоносным видом поборника разума и гуманности, и это, конечно, выглядело чрезвычайно забавно – во всяком случае, в глазах ректора Нейджела.
– Да, изверг-то я не изверг, – вслух проговорил Чарльз. – Но я и не гений. – И он с отвращением подумал, как явится сегодня к ректору на коктейль, – не пойти нельзя. И нельзя прийти и объявить, что с Блентом все осталось по-прежнему. Стало быть, по собственному бодрому признанию, он пожалует с официальным отчетом. Как последний подхалим и конъюнктурщик.
– Ничего, – зловеще пробормотал он. Он еще может вопреки всему настоять на своем. Он еще преподнесет им сюрприз.
Больше всего его злило сейчас, что он растрезвонил всем и вся, что, видите ли, желает лично встретиться с Блентом. Зачем это ему понадобилось? Чего он рассчитывал этим достигнуть? О, на первый взгляд это, бесспорно, законное и даже похвальное желание: гуманный и прекраснодушный мистер Пустозвон ставит человеческие отношения выше принципов. А если копнуть поглубже? Может быть, тайное желание познакомиться с Реймондом Блентом? На Чарльза с его болезненной чуткостью к своим малейшим душевным движениям вдруг повеяло неуловимым и щемящим ароматом тех давних лет, когда он сам мечтал стать звездой футбола и с мячом под мышкой, в футбольных доспехах позировал дома перед зеркалом, стараясь придать себе горделивую осанку и свирепое выражение, – такими обычно изображались на открытках и в дружеских шаржах герои его детства. Это трогательное и нелепое видение навеяло на него грусть; он вспомнил, как ему было стыдно, когда однажды, случайно распахнув дверь, его застала за этим занятием сестра: стоя на одной ноге, он неподвижно и стремительно мчался в молчаливое зеркальное поле.
Он мечтал стать звездой большого спорта, а вместо этого сделался преподавателем истории. В старших классах он был запасным защитником – «хвостовым», «брыкуном». Как они гордо звучат, эти отголоски печальных и минувших волнений… Студентом он уже не пытался попасть в состав команды – это было бы напрасно.
В колледже он примкнул к группе тех интеллигентов, которые, презирая и футбол и всех, кто в него играет, тем не менее ходят на матчи, считая способность сидеть среди болельщиков и не «болеть» достаточным доказательством собственного морального превосходства. Тогда-то и появилось у Чарльза это нервное отношение к футболу. Неспокойное, приподнятое настроение в субботу, сосущее ощущение под ложечкой – как будто играть предстояло ему самому. Иногда он не мог проглотить ни куска за обедом… Холодное великолепие осеннего дня, мощный гул стадиона… А потом, когда на поле ложились тени, и воздух становился холодней, и наступали последние минуты, – чувство горчайшего разочарования, кто бы ни победил. И унылое воскресенье, когда долгожданный матч уже, как и все другое, смыт безжалостным потоком времени, устремившимся дальше – к понедельнику, к будням… Тогда-то, пожалуй, впервые – по крайней мере впервые так сознательно – Чарльз ощутил трагическую неустойчивость всего сущего, неизбежность смерти, которая подстерегает и неудачника и баловня судьбы, сметает династии, рушит империи. Именно это смутное сознание непрочности всего, что представлялось незыблемым, тщетности всех усилий в жизни определило его интерес к истории, как будто история могла помочь ему сохранить от губительного потока времени какие-то немногие, уже обесцененные, выветрившиеся, но милые его сердцу ценности.
Читать дальше