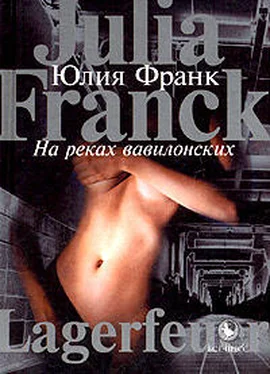— Ты могла еще сказать "нет".
— Ты так думаешь? Но я этого не знала, понимаешь? И в это не верила. Да и как было поверить? Как можно себе представить, что никогда о человеке ничего не узнаешь?
— Это же неправда, Юнис. Ты знаешь, что я люблю яичницу-болтунью, знаешь, что я люблю Эллу Фицджеральд. Все, что свойственно лично мне, ты знаешь.
— Что свойственно лично тебе? А что это такое? — Юнис кричала, чтобы показать свое отчаяние, но хоть я и видел его, оно меня не трогало. Или трогало гораздо меньше, чем тихое отчаяние этой Нелли Зенф, которую я, как мне показалось, понял, когда она не захотела дать нам нужные сведения.
— Кончай со своими упреками, Юнис. Это же ни к чему не приведет.
Юнис плакала. Потом она высморкалась и посмотрела на меня так, словно решила быть храброй.
— Милый, не мог бы ты снять с веревки белье, бледно-розовое?
Я вышел на террасу и обследовал белье, которое повесил сегодня утром. У Юнис было исключительно бледно-розовое нейлоновое белье с кружевами. Стирать его в машине, по ее мнению, было нельзя, так что ее нейлоновое белье стирал я. У нее была аллергия на моющие средства. Моего предложения стирать белье без этих средств она не приняла. И вот я годами стирал ей белье, стирал безучастно, однако с сознанием исполняемого долга, словно был обязан оказывать ей эту услугу. Обязан из-за всего, в чем за время нашего брака вынужден был ей отказывать, и еще более — из-за всего, в чем не был вынужден отказывать, но что, однако, предоставлял ей все в меньшей степени.
— Вот. — Я протянул ей белье.
— Как ты считаешь, надо мне выпрямить волосы? — Рука ее скользнула по бумаге, я увидел голову милого котеночка и удивленно склонился над рисунком. Она отвела руку в сторону, обнажив вскрытую грудь котенка. Его внутренности свешивались наружу и текли ко мне.
— Они ведь лежат у тебя такими красивыми волнами.
— Как у всех негров, милый, они в мелких завитках, как у всех нас. Волны — это нечто другое. — Она провела рукой по волосам и проверила в зеркале, действительно ли я смотрю на нее. Потом ее взгляд снова обратился на хорошенького котенка и его почти бесконечные внутренности.
Если бы Нелли Зенф проявила хотя бы некоторую готовность к сотрудничеству, она могла бы сразу получить полноценный статус беженца. Однако у нее явно были причины не открывать нам причин. Это вызывало недоверие.
— Может, их покрасить?
— Покрасить — это хорошо, — откликнулся я и задумался: возможно ли, чтобы Нелли Зенф больше знала о местонахождении своего Василия, чем мы.
— В рыжий цвет, потому что я ем только красное?
— В рыжий. — Как правило, мы знали о допрашиваемых больше, чем они сами. Лишь иногда, лишь в случаях, подобных делу Нелли Зенф, казалось, что мы могли бы выяснить что-то еще.
— Джон, ты что, спятил? Ты меня совсем не слушаешь. В рыжий! Это я в шутку сказала. — Юнис зарыдала. — А ты повторяешь: в рыжий. Как это будет выглядеть? Чернокожая женщина с рыжими волосами?
— Извини, Юнис.
— Извини, извини. Тут совершенно не за что извинять. — Она схватила меня, пытаясь вытолкнуть из ванной. — Радуйся, что я еще здесь. Но это уже ненадолго, слышишь, совсем ненадолго. — Из глаз ее хлынули слезы. — И что у тебя тогда будет за жизнь, милый?
— Ты остаешься только ради меня. — Это я констатировал, а не спрашивал. Она хотела, чтобы я был ей благодарен, чтобы я ее любил за то, что она остается. Я стоял в дверях и наблюдал, как она повернулась и, плача, продолжала рисовать своего котенка.
— О чем ты думаешь?
В зеркало я увидел, как Юнис улыбается своему котеночку и пририсовывает ему лапу, раздирающую грудь. Милый котеночек с глазами навыкате сам вырывал у себя кишки.
— Черт, я только что наложила тушь на свои новые ресницы. — Юнис высморкалась в кусок туалетной бумаги. — Ты помнишь еще, милый, самое начало, когда мы только приехали сюда? — Юнис рыдала и как будто бы пыталась взять себя в руки. Она боролась, она хотела, чтобы я видел ее борьбу. У Нелли Зенф внутренняя борьба была едва заметна. Сегодня мы прессовали ее восемь часов. Она становилась все более немногословной и, в конце концов, попросила сделать перерыв, — хотела выйти, чтобы взять обещанные ей талоны на еду и обеспечить питание своим детям. Однако выйти она все равно не могла. Выходить имеют право только те, кто принят. А ей еще надо было в разговоре с нами доказать, что она достойна быть принятой. О ее детях во время процедуры приема в дневные часы заботился священник. Только когда эта процедура будет закончена, — вероятно, с понедельника, — ее детям разрешат ходить в школу. Юнис рыдала.
Читать дальше