— Ну что, подонки, думаю, вы уже не надеетесь сделать ноги? Я вас поджидал. Было известно, что вы явитесь. Вас выдали. Суки есть и среди ваших…
Старший только улыбнулся, но тот, что помоложе, осмелился напомнить:
— Господин офицер, напрасно вы оскорбляете нас и вообще патриотов. К тому же приговор выносить вовсе не вам: у вас ведь только полицейские функции…
Капитан заколебался. Какое-то мгновение и ополченцы, и патриоты видели тревогу, не столько написанную, сколько выгравированную на его лице: он торопливо искал, бесясь, что не может обнаружить, наскрести в памяти и в самом укромном уголке собственной глотки тот надлежащий тон голоса, который бы поразил всех неслыханной силой и агрессией, такой, какого никто ранее не слыхивал, голос, для которого понадобилась бы подпора всех мышц его тела, голос, взявший бы себе всю эту силу без остатка, чтобы превратиться в голый напор, изрыгнутый вместе с жилами и костями, нагруженный ненавистью в самом своем рыке, так, чтобы обоих этих наглецов сбило бы с ног. Где ненависть? Сходя с ума от бешенства, капитан вгрызался в самого себя. Он исследовал все свои полости, все закоулки тела, но голос не хотел опускаться достаточно низко. Капитан поднес руку к горлу. Его паника была очевидна, он вращал обезумевшими глазами. Отдавая тайные почести поэзии Слова, он, блуждая в потемках, чувствовал, что только голос может совладать с человеком, но, не ведая изысков речевых игрищ, искал только тон, способный разить, как гром с ясного неба. Секунд десять спустя, выжатый, как лимон, этими поисками в голосовых пещерах, с пересохшим ртом, он нежно пообещал:
— Вы у меня этими словами блевать будете.
Партизан грустно улыбнулся, а потом его лицо стало бесстрастным. Не будучи в силах вышвырнуть врагов вон и захлопнуть за ними дверь, он затворил свое лицо. Оба ополченца познали сходный стыд и схожую ярость, что тотчас объединило их глубокой дружбой. Только общая ненависть способна придать дружбе такую прочность. В этом состоит роль врагов. Они связывают нас друг с другом любовью. Вот так же и французы на несколько дней возлюбили друг друга в своей ненависти (действенной притом) к немцам. Оба мальца не попадали в поле зрения арестованных. И все же Ритон поднял свой револьвер, а у второго, более нервного, задрожали коленки. Сделай кто-нибудь из пленников хоть жест в сторону одного из ополченцев, и другой, став любовным дополнением к первому, готов был рискнуть жизнью ради друга. Капитан подал им знак, и Ритон, грубо ткнув револьвером в спину старшего, толкнул его и просипел:
— Ну же, идите!
Помимо воли он обратился к нему во втором лице множественного числа. Оба арестованных с руками в наручниках спустились по гостиничной лестнице и сели в машину. Ритона удивило, как они красивы. Партизаны обладали большим апломбом, чем их ровесники-ополченцы. Несомненно, они были сделаны из более благородного металла. А это под моим пером отнюдь не комплимент. Под благородством я разумею некое всеми признаваемое сочетание очень красивых линий. Особую физическую и моральную стать. Благородный металл — тот, что чаще проходит через огонь, — это сталь. Оставалось только пожалеть, что они оказались не на стороне немцев, которые все равно прекраснее именно потому, что имели самых прекрасных врагов. Мне бы ради какого-то садистического изыска хотелось, чтобы партизаны сражались во имя зла. Те, которых я видел, были красивыми и даже слишком храбрыми парнями. В сравнении с ними ни Ритон, ни его кореш ничего не теряли в своей злобной красоте, но они думали о других ополченцах, хилых очкариках, сутулых, грязных, жирных или тощих, как жерди, и их обуревала печаль, как меня в Санте, когда я наблюдал тамошних подонков, не наделенных ни красотой, ни хитринкой, в то время как я имел дерзость и силу воображать тюрьмы этакими благотворительными центрами, истово почитающими благородство и полными восхитительных парней, где при всем том самые прелестные мальчики принадлежали бы к категории «outlaw» — к изгоям, людям вне закона. Ополченцы подражали молодежи рейха, а партизаны имели над ними преимущество оригинальности, свежести. В то время, когда все опасались эрзацев, ложных подобий прекраснейшей неволи, блистательная молодежь, опьяненная свободой, жила в лесах. Этим удивительным открытием мы обязаны отчаянию. Сопротивление вздымалось из зарослей, словно нервно колотящийся хвост — из шерсти зверя. И вся Франция поднималась, как этот хвост. Сидящий в своем кресле или лежащий на диване буржуа, заслышав «Марсельезу», поднялся бы, но что бы он делал перед окном? Обнажил бы голову? Но он стоял с непокрытой головой. И вот, чтобы почтить Францию, широким жестом правой руки он убирал с носа — как вынимают оружие из кобуры — очки в костяной оправе с широкими толстыми дужками и держал их у груди до окончания гимна, исполнявшегося где-то на холмах, в опускающихся сумерках. «Марсельеза» выходила из лесов.
Читать дальше






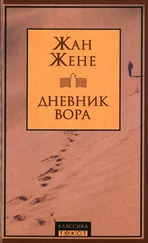


![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
