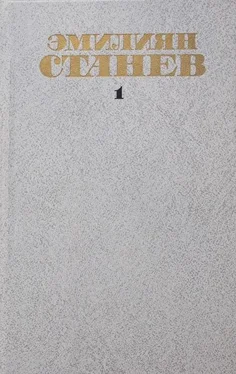В своем отчаянии и злобе он сказал себе, что сущность жизни, возможно, совсем не в той возвышенной и нравственной деятельности, которая до сих пор служила ему мерилом всех человеческих дел, ее сущность — грубая, жестокая биологическая сила.
Приняв этот взгляд за истинный, Манев впал в тревожное, угнетенное и подавленное состояние, в какое впадает человек, когда отречется от всей прожитой жизни и от своих взглядов как от ошибочных.
«Все произвольно, все возможно и все позволено, — думал он, щурясь, чтобы защититься от солнца, светившего прямо в окно. — Жизнь усложнена красивыми вымыслами, именуемыми «культура», «гуманность», «бог», «совесть», а на самом деле она всегда была грубой витальной силой, все равно — нравственной или безнравственной. Народы выдумали эти ложные солнца, когда на них напало благодушное настроение… Все идет от исконной жажды жить дольше и от страха перед смертью. Человечество создало литературу и искусства, чтобы «остановить ускользающее мгновение».
Манев поддался своему отчаянию, и всю дорогу мысли его текли все в том же направлении, словно он нарочно растравлял свою рану, и постепенно он начал ненавидеть самого себя. И чем больше убеждался в правоте своих новых мыслей, тем сильней ненавидел жизнь, пассажиров и даже незнакомых людей, которых видел на станциях.
Когда они наконец приехали и он увидел накаленный перрон, по которому расхаживал часовой с примкнутым штыком, ему показалось, что он сошел в незнакомом городе.
Почерневшее от копоти здание вокзала, накаленные рельсы, немая равнина, залитая солнцем, и мертвая тишина, наступившая на станции, как только отошел поезд, произвели на него тягостное впечатление.
Он взял в руки оба чемодана и вышел, сопровождаемый женой, на привокзальную площадь. На площади было пусто и глухо. Большие ставни мучных лабазов были закрыты, железные полосы, прибитые крест-накрест, придавали им старинный вид — казалось, они никогда уже больше не откроются. Город лежал в тени гор, странно притихший, словно праздновал утомительно долгий праздник. Несколько пролеток, серых от пыли, запряженных тощими лошаденками, с сиденьями, покрытыми холстиной, ждали седоков.
— Как будто это не тот город, куда мы ездим каждый год, — сказал Манев жене, когда они тряслись по городским улицам в одной из этих пролеток. — На базаре пусто, в лавках вроде бы ничего нет, а люди между тем торгуют и наживают целые состояния.
— Как те, что ехали с нами в одном купе… Один курил сигарету за сигаретой. Как можно так нахально себя вести! — сказала она, и в ее черных глазах вспыхнул огонь возмущения, который он так любил видеть.
— Они того же поля ягода, что и Арсов, — заметил он.
Арсов был их сосед по квартире, фабрикант.
— Арсов по крайней мере интеллигентен, у него есть вкус. Если бы ты к ним зашел, ты сам бы в этом убедился.
— Вкус?! Ты путаешь новую мебель, которой обзавелся разбогатевший выскочка, со вкусом. Арсов такой же мошенник, как они.
— Ну, это ты слишком… Если человек умеет зарабатывать, это еще не значит, что он мошенник.
Манев взглянул на нее сердито. Жена смотрела перед собой, и по ее лицу было заметно, что она тоже устала и раздражена тяжелой дорогой.
Он нахмурился и замолчал. Они не раз ссорились из-за этого Арсова, жена которого была приятельницей его жены. Жена Манева часто ходила к ней в гости и, видя, в каком довольстве живет фабрикант, осыпала упреками своего мужа. Манев вскипал и начинал доказывать, что главное в жизни не деньги, а интеллигентность, здоровье и любовь и мир в семье.
Он понимал, что если теперь расскажет жене, о чем он думал в поезде, то опровергнет все, что выдвигал как главное и существенное для счастливой жизни.
Он замкнулся в себе и решил молчать. «Смешно спорить с ней. Она никогда этого не поймет… Да я и сам не очень уверен в том, что она не права… Ух, какой позор!» — воскликнул он про себя, почувствовав, что на этот раз его охватывает злоба и на жену.
Чтобы как-то отвлечься, он стал смотреть вдаль, на синевато-зеленые холмы, покрытые виноградниками, среди которых белели дачи. Он старался вообразить прекрасные свежие утра, когда роса блестит, словно жемчуг, на крупных листьях подорожника возле ручья, протекающего у самой дачи, бочажок, в котором он любил ловить сачком раков. Но как только они выехали из города и он посмотрел на горы, над которыми желтело чистое вечернее небо, он опять почувствовал, как ему плохо, как мучительно его состояние. За этим сизым хребтом остался его дом, его труды и заботы, тысячи мелких, но важных вещей, которые составляли его жизнь и от которых он не мог убежать. Мирные и спокойные часы, проведенные среди книг, длинные вечера, заполненные занятиями в кабинете или беседами с друзьями, казались ему неповторимыми. Эти дни прошли безвозвратно, сама его жизнь разделилась на две половины — в одной осталось прошлое со всеми неосуществленными планами и надеждами, другая была полна неизвестности и страха перед будущим.
Читать дальше