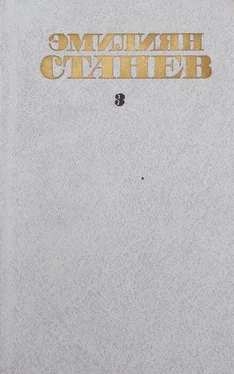Рядом с ним тихо дышала свернувшаяся калачиком жена. Крика никто не слышал, и Пармаков не мог понять, кричал он на самом деле или нет.
«Этот сон не к добру», — подумал он, и тоска вновь сдавила его сердце. Стало жалко детей, он вдруг почувствовал себя одиноким, всеми покинутым. «Не на кого тебе опереться. Хоть ты и власть, а руки коротки… Останутся твои дети сиротами, Панайот Пармаков, жаль и их, и тебя. Эх, Болгария, не ценишь ты своих доблестных сынов, только подлецы у тебя и процветают… А может, отказаться от этого дела или хотя бы отложить? М-да, но ведь он дал слово. Панайот Пармаков не подлец, он кавалер. Господь уберег его, когда он шел на смерть, убережет и сейчас… Слава тебе, господи, — прошептал пристав и в темноте перекрестился. — Слово свое он сдержит. Не стыдно ли бояться какого-то бездельника! А как он в бытность свою ефрейтором восемнадцатого пехотного его величества полка в атаке под Л юле-Бургасом сразил того курда! Не человек был — гора! Курд замахнулся на него прикладом, замахнулся и Пармаков. Шейки прикладов переломились, затворы вылетели. Пармаков схватил курда за ногу, повалил его и прикончил ударом кулака по голове. А под Кубадином он с одной только фельдфебельской шашкой в руках повел в атаку пехотное отделение и очистил от румын целую деревню. Под Битолой выдержал адский огонь англо-французов, обнаруживших батарею Корфонозова, и, чтобы обмануть неприятеля, поддерживал непрерывную стрельбу. Батарея была спасена, но половина ее личного состава перебита или изранена. А Пармаков и оттуда, слава господу богу, вышел цел и невредим…»
Борясь с нахлынувшей жалостью к самому себе, Пармаков так и не уснул в эту короткую летнюю ночь. Утром он зашел в участок, взял с собой одного полицейского, которого считал посмелее, и вместе с ним направился в медницкие ряды.
Небольшую вымощенную булыжником площадь, где еще при турках располагались мастерские медников, шорников и жестянщиков, связывала с остальной частью города выходящая к мосту улочка. По ней проходил Анастасий, когда шел домой или в центр города. По плану пристава Анастасия нужно было арестовать именно здесь, в стороне от главной улицы, где ему на помощь могли прийти дружки.
На площади были две кофейни и парикмахерская. Пармаков с полицейским выбрали кофейню, из которой были видны все ряды, и попросили принести им кофе и нарды. Кофейня была бедная, с небольшой витриной, с лоснящимися от долгого употребления стульями, с громадным очагом и развешанными по стенам литографиями в дешевых рамках. Сюда заходили медники и шорники, забредали и случайные прохожие — какой-нибудь грузчик с веревкой вместо пояса или сельчанин, заглянувший в эту часть города купить котел или керосиновую лампу.
Колокол нижней церкви звонил не переставая, ему на разные голоса откликались молотки жестянщиков и медников. В это время тайный полицейский агент, которого в городе все знали и на которого поэтому Пармаков никак не мог положиться, вертелся возле клуба анархистов. До обеда Анастасий там не показывался и вообще, по донесениям агента, на улицах не появлялся.
Пармаков и полицейский сходили домой пообедать и к четырем часам вернулись в кофейню. Пристав упорствовал. Они опять взяли нарды — якобы затем, чтобы закончить начатую до обеда партию, и только начали расставлять шашки, как в верхней части площади показался Анастасий — наверно, возвращался домой.
Первым его заметил Пармаков, сидевший у самой витрины и наблюдавший за улицей.
Анархист шел по неровному булыжнику прямо к кофейне. Он похудел и пожелтел. Высокая его фигура согнулась в плечах, осунувшееся небритое лицо под широкополой шляпой имело вид рассеянный и болезненный.
Сердце Пармакова заколотилось, кровь ударила в голову. Он дал знак полицейскому и встал. Полицейский расстегнул кобуру, обогнул стол и, перешагнув низенькую каменную ступеньку перед дверью, пошел навстречу Анастасию. Анастасий все так же уныло брел по теневой стороне площади вдоль лавок.
«Попался в ловушку, гадина! — подумал пристав, наблюдавший за своим врагом через грязное стекло витрины и вспоминая свой сон. — Помоги, господи!»
В эту минуту в одной из мастерских звонко стукнул молоток, застонала медь, тревожно зазвенел молоток у другого жестянщика. Эти звуки наполнили маленькую площадь и слились с усилившимся похоронным звоном. Пармаков почувствовал, как что-то резануло его по сердцу. Мрачное предчувствие, время от времени охватывавшее его, опять овладело сознанием, во рту пересохло.
Читать дальше