Оголодавшая Новая, каждая в свой срок терпимости, наконец дозревала до решения уйти. Иная даже называла сочувствующей Урсуле день исхода. Некоторые обсуждали с ней слова прощальной записки, способной поселить в сердце Ханса вечные сожаления и раскаяние. Случайно встретившись с соседом на границе, Урсула сообщала ему в исповедальную прореху забора о надвигающемся событии и выражала искреннее участие:
– Ах, снова неудача, жаль! Йа-йа, снова…
В такие дни она испытывала прилив сил. Устраивала стирку, терла и полоскала уже прокрученное в машине белье. Встряхивала, всматривалась, пытаясь разглядеть что-то невидимое. Ей одной были зримы неуничтожимые приметы ее несомненного супружества, лежания на простынях вместе с мужем. Сами эти прямоугольники сырого полотна, отмытые до снеговой белизны, все равно были намеком на тайны постели, ведь это были простыни. Она хотела простирать и высушить их так, чтоб не только телам – даже духу живой жизни было страшно вернуться в эту ангельски чистую чистоту. Ей нравилось укрощать рвущиеся на ветру, как поэтические паруса, простыни, мстительно прожаривать их раскаленным утюгом, складывать – уголок к уголку – в прозаические квадраты и запирать эти несокрушимые стопы в суровых кельях шкафа. Все переделав, Урсула ощущала в груди тупые удары радости – порядок!
А уж Ханс, получив секретное известие, знал, что надо делать. Он никогда не забывал о ковре. Он умыкал в подвал все, что могла унести уходящая. Какие-нибудь чашки-плошки, купленные ею на радостях начавшегося сожительства. Радио или будильник, пару простынок – не так уж много успевала приобрести подруга для быта молодой семьи.
Решившись вязать узел, стареющая Новая обнаруживала, что взять нечего. Она помнила, что покупала, но взгляд не находил ничего. Все вещественное, которое могло доказать, что она жила здесь и несла расходы, исчезало, или его невозможно было вернуть.
Малярша не могла содрать свою краску, слипшуюся с дверями и окнами. Той, что не умела плавать, было не под силу вынуть из пруда дорогую пленку, погребенную кубометрами воды. Поиски часиков и кастрюлек замирали перед кладовой подвала, и в добрые времена всегда запертой. Одна из уходящих не нашла свою новую пижамку. Ханс, прикинув на себя спальный костюмчик, решил, что – сгодится, а что брючки без захода, то для него никогда не было проблемой спустить штаны.
Лишь добрая Урсула иногда дарила Старой что-нибудь на память о совместной жизни в соседстве. Кухонное полотенчико. Салфеточку с пасхальными зайчиками. Или декоративный булыжник с надписью “Много счастья!” Чтобы вручить подарки, Урсула навещала Старую. Если у Ханса уже хозяйничала Новая, Урсула не скрывала правду и внимательно впитывала все выражения лица Старой.
Прошло еще несколько лет строительства социализма в большом лагере братских народов. У Старшего, главаря, мавзолейного брата, – а следом, значит, нагрянут ко всем, – начались перемены к еще более лучшей жизни. Младшие, сидя на высоких шпицах своих должностей, боязливо поглядывали по сторонам. То вверх – на свой крест, авторитет Старшего. То – на других Младших. И, как верткие флюгеры, старались незаметно лояльно встать по ходу океанских ветров. Вниз, куда, возможно, предстояло упасть, смотреть было страшно. Ведь ясно: построение лучшего потребует развалин. Как это заведено у Старшего. Никто не знал масштабов предстоящего, но боялись, что дело не кончится дефиле танков Старшего по узеньким площадям Младших. За очень хорошую жизнь придется заплатить подороже.
Не знали, что с нар кто-то вознесется во главу парламента. Из президиумов побегут за границу. Что многие свалятся со шпицев, не покалечившись, – как попало, в некрасивой позе, – но, главное, бескровно, даже бархатно. Лишь одного братского Главного пришьют – и не русские, а свой же народ: без этого он не представлял лучшего.
Ничто подобное, конечно, не грозило простым, незаметным труженикам. Просто Ханс как-то обнаружил, будто сверху, на лысину, что-то капнуло.
– О-о! Уж и полтинник на носу!
Пришла новая осень. Ушла очередная Старая. Не та, которая плакала и жаловалась Урсуле, а другая, которая обокрала Ханса. Она все просчитала – без тетрадки. Выждала день, когда он доверчиво выдаст свой единственный вклад на покупку еды. Умышленно отоварилась вместе с Хансом сыром, яйцами, творогом и маргарином. И все это, и долю Ханса тоже, выгребла из холодильника и уехала!
Ханс, придя с работы, ждал-пождал ее и ужина, потом заглянул в холодильник, и – на тебе! Пусто! И второй ключ от дома нашел в углу прихожей! И кролики не кормлены! Над этим брошенным на пол толстым, бородавчатым ключом – ходоком по всем дверным скважинам дома, исключая только подвал, – Ханс чуть не зарыдал. Как так? Получить полное доверие, ключ от всего дома, и швырнуть его, намеренно, наземь, чтоб унизить, всадить оскорбление прямо в сердце!
Читать дальше





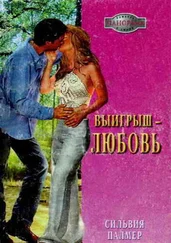
![Екатерина Шварц - Ты мой выигрыш [СИ]](/books/407733/ekaterina-shvarc-ty-moj-vyigrysh-si-thumb.webp)


