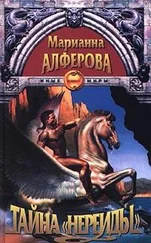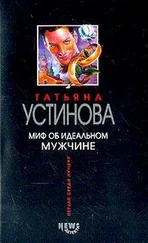— Самсонов, — жалобно позвала Любаша.
— Приведите себя в порядок. Умойтесь, — приказал он, и Люба послушалась. Полчаса спустя она внимательно слушала, стоя в дверях, а он все ходил по лаборатории, стараясь не приближаться к ней.
— Я пришел только затем, чтобы сообщить вам, что у нас нет, и не может быть никакого будущего. Я не собираюсь являться сюда по первому вашему зову. То есть, вообще не собираюсь сюда являться. Не знаю, что вы сочинили себе, хотя чему удивляться, вы же сочинитель, но между нами нет отношений — запомните — нет.
Что-то еще он говорил, куда-то ходил, Люба плохо запомнила. Ушел. Все кончилось, не начавшись.
Люба подошла к столу у стены, заставленному склянками с образцами красок. Вроде бы Катя говорила, что в краски добавляют яд? Взяла одну, с ярко алой жидкостью, пахнущей уксусом. Темному ноябрю необычайно шел алый цвет. За спичками не пришлось идти на кухню, на лабораторном столе нашлись спички в комплекте со спиртовкой. Люба отламывала спичечные головки и бросала в алую жидкость; они не желали тонуть и растворяться. Израсходовав полкоробка, задумалась — больше не помещалось в посудину. Из-под локтя вылезло давешнее Костяное рыльце, залопотало что-то, Люба не слышала, не удивилась его появлению. Вздохнула, протянула руку за склянкой, Костяное рыльце растопырило тоненькие ручки-ножки с птичьими коготками, изловчилось, стукнуло по красному стеклянному боку. Склянка опрокинулась, покатилась по столу, заливая столешницу и Любино нарядное платье ненастоящей кровью, докатилась до края, упала и разбилась. Люба спокойно взяла следующую, тоже алую, потянулась, было, к тиглю с бирюзовыми кристаллами медного купороса, но решила, что спички надежнее. Накрошила еще одну партию серных головок, погрозила Рыльцу кулаком, взболтала свой кубок и залпом выпила содержимое. Спички, конечно, остались в склянке. Она собиралась дойти до маленькой комнатки, сесть в красивое кресло и умереть. Не получилось. Сразу сделалось больно, в груди и ниже побежали мыши, принялись кусать изнутри, прогрызая путь наружу. Люба закричала, порвала корсаж платья, упала на пол и принялась кататься, все продолжая кричать. Тотчас в двери зазвенел ключ.
— Это Самсонов вернулся, — догадалась Люба. — Он вернулся меня спасти. Все будет хорошо. — Костяное рыльце согласно закивало и принялось нараспев повторять последнюю фразу.
Все будет хорошо — последнее, что она услышала и запомнила.
Дверь отворилась, и вошел Гущин.
Петр Александрович как-то уж слишком быстро сообразил, что здесь произошло. Он ринулся к окну, мимо женщины, бьющейся в судорогах, распахнул створку, сорвав шпингалет, и закричал:
— Федька! Поднимайся, живей!
Когда кучер, недоумевающий и нимало напуганный, взошел, Гущин уже разводил в миске марганцовку.
— Держи ее за голову! Ну! Быстро!
Федька мелко крестился: — Никак это Любовь Васильевна, Катерины Павловны сестра, Павла Андреевича племянница.
— Ты мне будешь родословную пересказывать, — взъярился Гущин. — Подай резиновую трубку со стола, да не стой, дубина!
— Пальто снимите, Петр Александрович, изгваздаете, — жалобно сказал кучер. Он неловко держал Любу за развившуюся косу, руки его тряслись. — Отходит ведь она. Что ж ее мучать-то понапрасну. Что это вы делаете? Разве вы доктор… Вы ж после и будете виноваты.
— Желудок промыть дело нехитрое. Может, успеем. А иначе мы ее живую не довезем.
— Куда же вы ее повезете такую? Может за приставом сбегать? Самоубийство, ясное дело. Надо бы оборониться, вот ведь грех-то. Как она в вашу лаболаторию попала, интересно. Вас поджидала? А Катерина Павловна что скажет?
— Федька, сделай одолжение, помолчи. Какой к черту пристав. Бери за ноги, понесли в коляску. И быстро на Литейный, в Мариинскую больницу.
Кучер уже подхватил Любашу, но продолжал бубнить:
— Так ведь, Мариинская-то, она для бедных больница. А вас спросят, все одно, что с барышней стряслось, дело подсудное. Если она вас поджидала, спросят, что ее так огорчило. Или попугать вздумала, барышни это уважают — попугать, да не рассчитала. А у вас, вон, яды всякие. Опять же, подсудное дело. А будет жива барышня, али нет?
— Сказал — замолчи, без тебя тошно. Будет жива, будет, если ты поторопишься. Чтоб за десять минут домчал.
— Барин, а ведь мы дверь не затворили.
— Черт с ней, с дверью.
У больницы Гущин наказал Федьке не высовываться, взял Любашу на руки и понес в приемный покой, словно она весила не больше кошки. Попросил дежурного доктора вызвать врача Платонова, отрекомендовался его приятелем и решительно объявил, что говорить станет только с ним. Любашу тотчас положили на носилки и потащили на второй этаж. Сильно пахло хлоркой и прогорклым маслом, наверное, из кухни, а еще чем-то тревожным, Гущин подумал и сообразил — формалин, неужели, из покойницкой? В больнице должен быть морг… Если Любу не спасут, лежать ей тут же на оцинкованном столе, в разорванном платье. Хотя, платье уже переодели, заменили серой тощей рубахой. А в двух шагах, за высокой чугунной оградой с желтыми навершиями, спешат пролетки, покрикивают извозчики, прохожие торопятся, твердо ступая по булыжной мостовой, кошки шмыгают в подворотни — живые, быстрые.
Читать дальше