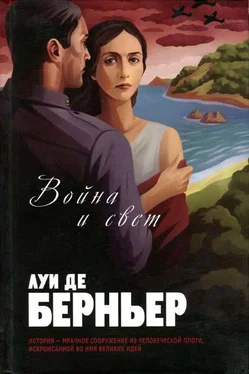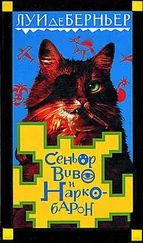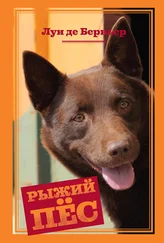Не передать облегчение, не передать истинное наслаждение отказа от борьбы, испытанное в тот момент, когда понимаешь, что умереть менее ужасно, чем продолжать сражение за жизнь. Приятно, ах, как приятно глубоко вдохнуть холодной воды и позволить ей наполнить грудь. Так хорошо, так чисто, и в голове странная колеблющаяся ясность. Только что мимо проплыла большая рыба, и впервые в жизни меня кольнула зависть к подводным обитателям.
Вот неподалеку кто-то еще опускается на дно, однако лицо закрыто поднявшимися юбками. Интересно, дама обеспокоена тем, что умирает, столь нескромно выставив беленькие панталоны на обозрение всем мужчинам-утопленникам? Должен сказать, у нее прелестные ножки, но я их не узнаю? — вероятно, они не принадлежат ни одной из моих фавориточек.
Ноздри залило, ушам больно, вижу над собою днище корабля и уже свыкся со вкусом соли. В воде разносятся какие-то стуки и шум двигателей. Наверное, это союзнические корабли, что с принципиальным нейтралитетом и осторожным безразличием наблюдают, как мы барахтаемся и тонем. Поначалу водой щипало ожоги на лице и руках, но теперь они успокоились, и рад сообщить, почти не чувствуется рана от пули, всаженной в меня турецким солдатом, когда я попытался отплыть от причала.
Я сильно горевал из-за этой смерти, пока не начал умирать как следует. Мне-то представлялась более совершенная смерть: ну, скажем, лет в девяносто меня застрелит ревнивая любовница двадцати одного года в объятьях ее девятнадцатилетней соперницы. Еще лучше и уж абсолютно идеально было бы не умирать вовсе. Я любил свою жизнь. Чудное было времечко, грех жаловаться. И вся цена за это — изредка навестить знахаря по поводу триппера, да иногда потревожиться, каковы процентные ставки и хорош ли урожай изюма? У меня была такая замечательная жизнь, что безмятежность ее вдохновляла меня на неразумные филантропические поступки — построить маленькую насосную станцию в Эскибахче, например, и простить долги друзьям.
Однако меня беспокоит, что я умираю (хоть и весьма приятно) из-за колоссальной херни, заваренной первостатейными безмозглыми дурастелями и глупендяями, вдруг решившими, что они облечены властью все перелопатить. Прошу простить столь сильное выражение чувств. Обычно в присутствии дам я не пользуюсь крепким словцом, но, как утопающий, который всего лишился из-за фиглярства сумасбродов, считаю себя вправе изъясняться живописно. (Только что любопытная портовая кефаль потыкалась мне в лицо и вполне миролюбиво отплыла.)
Давайте проясним одну вещь: я не дурандай и никогда им не был. Будь я дурбенем, не сколотил бы немалого состояния, не платил бы крохи налогов, не завел бы отличные связи во всевозможных слоях общества. Нет ничего невиннее, друзья мои, чем погоня за деньгами, чем алчный, но честный обмен товарами и трудом. Я капиталист, а ни один порядочный капиталист не может себе позволить быть недоумком. Я делал деньги на любом товаре и даже из воздуха, щедро тратя их на необходимое и легкомысленное. Я стольким людям дал работу, что Господу, когда окажусь на небесах, следует оделить меня орденом и личным борделем. Без меня многие крестьяне жили бы хуже и многие шлюшки не ходили бы расфуфыренными.
Я назову вам всех дуплецов, начиная с верхушки. Вообще-то у них нет верхушки, поскольку в чемпионатах по безмозглости так много состязателей, что первыми приходят все. Прежде чем назову их по именам, позвольте уточнить: я не Старый Грек. Родом я не из Афин или подобной убогой дыры, где даже не умеют толком говорить на греческом. Я грек-райя [109] Райя — турецкий подданный-немусульманин.
, чистопробный грек из Малой Азии, целые поколения моей семьи процветали в Смирне, и я стакнусь с любым старым турком, евреем, армянином или левантийцем, коль скоро они расположены заключить обоюдовыгодную сделку. Я не делаю различий в расах и религиях, когда маячит хороший куш или славная ночка в борделе Розы, который, боюсь, сгорел дотла в том самом пожарище, что раскинулся от улицы Белла-Виста до таможни, от таможни до гостиницы «Басма», а на севере до Хаджи-Паши и Массурди, и превращает чудеснейший уголок Леванта в груду пепла от костей и дерева в равных долях.
Вот вам навскидку некоторые мудилы: греческий народ, избравший на власть романтика, Его романтическую авантюрность премьер-министра Элефтериоса Венизелоса, который искренне полагал, будто может оттяпать и присобачить к Старой Греции прекраснейшую часть Турции, а ведь никто не давал ему на то разрешения и здесь большинство турок, а никто хоть с толикой разума их не злит, ибо в чем турки хороши, так это в умении крепко дать сдачи, когда их разозлят. Олух номер два: опять же греческий народ, столь же романтичный, как вышеупомянутый романтик, и считавший, что, поскольку здешняя цивилизация в отдаленном прошлом приблизительно напоминала греческую и отчасти греческая сейчас, следует силком втянуть ее в союз со Старой Грецией. Дубина стоеросовая номер три: премьер-министр Греции Элефтериос Венизелос, которого заклинило на «Великих Идеях».
Читать дальше