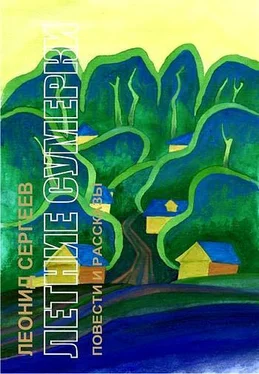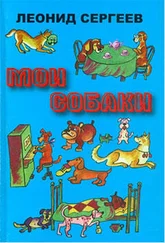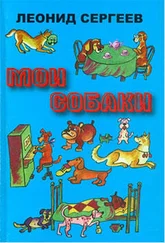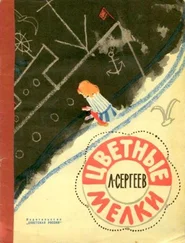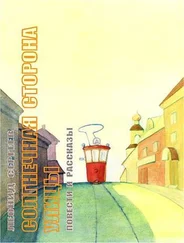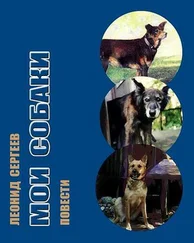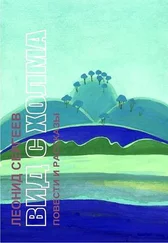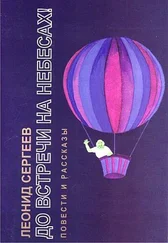Никитич был спокойный, обходительный, с низким гулким голосом, на его грубоватом лице сохранилась детскость — и не только на лице, но и в душе — он с удовольствием возился с детьми и собаками.
— Я люблю детишек, — говорил. — Помниться, в Берлине был случай. Наша часть только заступила в город. Кругом развалины дымятся. Мы выбивали немцев из одного дома, вдруг слышим плач: «Мутер! Мутер!». Смотрим, на улице под перекрестным огнем годовалый ребенок… Ну я обратился к взводному: «Разрешите, товарищ лейтенант?». Подполз, взял ребенка, притащил в укрытие… Вот так и получается, война войной, а дети расплачивались. Сколько их, сирот-то, осталось. Дети, они ведь везде дети.
Палыч считался сложным человеком, правдолюбцем, который все осматривал критически, выслушивал с недоверчивым прищуром, в людях ценил здравые мысли — ему лучше было не докучать по пустякам. Случалось, молодой матрос начнет показывать силу — выжимать ящик с песком, Палыч сразу бурчит:
— Постыдно бахвалишься. Не в силе дело, а в навыке… На фронте не такие здоровяки ломались. Бывало, ночной марш-бросок километров двадцать. Запас патронов брали не по четыре сотни, а по шесть и гранат побольше. Вот тогда и проверялся человек. Смотришь, один — косая сажень, уже язык на плечо повесил, а другой — этакий хилый, невзрачного вида, оказался двужильным.
Никитич прошел автоматчиком до Берлина, имел десяток шрамов — отметин ранений. Палыч сильно хромал, у него были прострелены ноги — он служил десантником.
В теплые дни старики покуривали на палубе.
— Люблю сухие деньки, — вздыхал Никитич. — Кажись, такие же стояли, когда мы форсировали Днестр. На переправу налетели «мессеры», и одна бомба угодила в паром. Спаслись только двое: один паренек с Урала, да я…
— …А нашу группу однажды забрасывали на один мыс в Северном море, — говорил Палыч. — Да, значит… Перед рассветом шли на катере. Шли в тумане на малых оборотах… Группа была небольшая, человек десять, но ребята все отборные, бывалые. И что ты думаешь?! До места высадки оставалось мили три, не больше, и нас засекли. И ударили из орудий. Один снаряд попал в катер, и он прямо на глазах развалился пополам. Меня взрывной волной отбросило на сотню метров. Вынырнул, смотрю — вокруг обломков горит разлитое горючее, и там кто-то из наших барахтается. «Поднырни!» — ору, а он, как факел, уже без сознания… Ну, поплыл я, значит, к берегу. А куда плыть-то? Кругом туман, и на берегу немцы. «Ну, — думаю, — доплыву до берега, а там, укрываясь, как-нибудь доберусь до наших…» На третьи сутки добрался… вначале километров пять отмахал в ледяной воде, потом карабкался по осклизлым скалам и хляби. Добрался, одним словом…
После листопада погода установилась ветреная, начались дожди, продолжительные, беспрерывные; сточные люки не справлялись с массой воды, и местами в порту заливало подвальные помещения. Никитич и Палыч отсиживались в каюте при тусклом свете керосиновой лампы, от качки по стенам прыгали тени, слышались хлесткие удары волн о корпус.
— Люблю дождь, — говорил Никитич, глядя на иллюминатор, где били потоки воды. — Помнится, раз в такую вот погоду взводный послал меня отвести «языков» в штаб. «Языков» было двое: солдаты… один пожилой, другой молодой… Инструкцию взводный дал такую: «Если один побежит, стрелять в ногу стоящего рядом и догонять того…». Шли мы перелесками, по топям. Немцы впереди, я за ними, в трех шагах… Дожди лили вроде нынешних… И вот вижу, немцы что-то переглядываются. Ну я прикрикнул, автомат взял на изготовку. И, скажу тебе, все ж упустил момент. Пожилой нырнул в кусты и побежал. «Стой!» — заорал я и дал очередь в воздух. Потом направил автомат на молодого, а он, понимаешь ли, бросился на колени и в рев. «Мутер! Мутер!» — бормочет и руки то к сердцу прижмет, то над головой вскинет, то ко мне протянет. Говорит: «У тебя мать, и у меня мать». Я малость по-ихнему уже научился разбирать… И вот как так получилось, до сих пор в толк не возьму, непроизвольно нажал я на спуск и прошил его очередью. Да… Так вот получилось… И того, пожилого немца не догнал. В общем, трибунал мне грозил, да отделался «губой». У меня уж тогда награды были… И вот, помнится, сидел я на «губе», а перед глазами все видел того молодого немца… Совсем мальчишка он был-то… Умоляет меня не убивать и плачет… Вот я и подумал — зачем совершил убийство?! Одно дело в бою, другое — вот так, пленного… Кажись, я даже бредил во сне…
— Не ты его, так он тебя бы, — мрачно со злой решимостью вставил Палыч.
Читать дальше