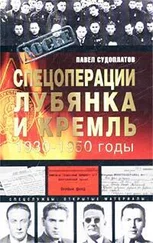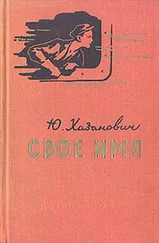Я запомнила наизусть Ваши стихи на мое восемнадцатилетие. Там, в конце, Вы восклицаете: „Почему мне не двадцать один?!“ Хочу сказать (серьезно, без иронии), что, несмотря на Ваши „ не двадцать один“, я в то время вполне могла влюбиться в Вас, если бы не всякие „ментальные“ барьеры. Ведь Вы были красивым, умным, остроумным (от автора: ох, спасибо, Машка!) , а внутри чувствовался некий „драматический надлом“. (Еще раз спасибо!) Увы, поезд ушел…»
Мне дорого в этом письме, во-первых, признание Маши в том, что, читая мою книгу, чувствовала себя мною. Выходит, не только с ее отцом, о чем я только что писал, но и с нею было у нас некое родство душ. А во-вторых, она подтвердила и другое мое убеждение, которое за давностью лет могло оказаться, чего я не на шутку боялся, просто приятным домыслом, — убеждение в том, что у нас с Мироном была подлинная дружба.
И, значит, то, что я много лет назад сочинил к его очередному дню рождения (ласково называя его Мирончик, а сокращенно — Чик), было совершенно искренне:
Пью за здравие Чика,
Кто один у меня…
Ты поменьше ворчи-ка:
Сгубит нас воркотня.
Умоляю, мон шер, ты
Подымай выше нос —
Нет, поверь мне, той жертвы,
Что бы я ни принес
Ради наших скитаний —
Нынче, завтра, вчера,
Ради наших мечтаний,
Споров, et cetera…
Глава 6. Второй выпуск моих десятиклассников. Ее безответная любовь к красавцу-учителю. «Спасибо, Алик! Спасибо, Гурген! Спасибо, Терлецкие пруды!..» «Ашотик, не коли дядю вилкой!..» На Плесе… Мои друзья-редакторы. «Веселый ветер…» Уход из школы. Те же действующие лица, и совершенно иное лицо. (Оно же — морда.)
На шестом году пребывания в школе подошло для меня время прощаться со вторым выпуском десятиклассников. С первым, в котором были только мальчишки, ушли Толя Баринов, писавший неплохие стихи (поэтом он, видимо, так и не стал, а гражданином — не знаю); зато знаю, что Денис (бывший Александр) Пекарев стал гражданином Западной Германии и ведущим на радиостанции «Свобода». Еще знаю, что Володя Перетурин совсем недавно тяжело заболел, а до этого был одним из самых известных наших футбольных комментаторов. Распрощался я и с Колей Журавлевым (фамилия изменена) — тем самым мальчиком, кто, защищая мать, убил своего отца.
Во втором выпуске были уже и девочки. Иначе я не узнал бы того, о чем поведала мне через много лет моя близкая приятельница, чья подруга жила в те годы в одной квартире с кем-то из моих тогдашних учениц. Оказалось, бедная девушка, вместо того чтобы учить уроки, половину учебного года плакалась у нее на груди, признаваясь в своей безответной любви к «красавцу-учителю» английского языка. (Как звали несчастную жертву моего обаяния, я так и не смог выпытать.)
Ни с кем из первых выпускников я больше никогда не встретился, а встретившись теперь, вряд ли кого узнаю, как и они меня: ведь им уже далеко за шестьдесят, а мне… и говорить противно.
С безнадежным запозданием сожалею, что в те далекие времена не поддерживал более тесные отношения хотя бы с теми, кто был мне не только симпатичен, но интересен.
То же самое произошло и с учениками второго выпуска, у которых я считался даже классным руководителем, так что мог вторгаться в их семьи. Но не вторгался… Впрочем, нет: в одной семье побывал — у высокого, хорошо воспитанного мальчика, Павла Литвинова. Его хорошее воспитание выражалось, в частности, и в том, что, зная английский язык в тысячу раз лучше меня (его бабушка — англичанка), он ни разу не показал этого на моих уроках. И если бы я, по приглашению именно этой бабушки, не зашел однажды к ним в квартиру (они жили по соседству со школой), я бы так и не узнал, что ее муж, а его дед — это Максим Литвинов, кто был наркомом иностранных дел, а впоследствии советским послом в Соединенных Штатах. Старика Литвинова к этому времени уже не было в живых: он умер, к счастью для себя, на свободе в 1951 году, а его вдова, английская писательница, осталась жить в Москве, чему я не мог тогда не удивляться. В тот раз мы поговорили с ней недолго, не помню о чем, а лет через семь-восемь встретились опять — под Москвой, в Доме творчества писателей, к которым я тогда по своему статусу начал постепенно приближаться, и говорили о многом, в том числе и о ее внуке Павле, кто, свернув со стези высшей математики, только-только начинал свою противоправную, диссидентскую деятельность, в защиту разных враждебных советскому строю элементов. За что и был, в конце концов, выслан из страны и с тех пор живет в Америке. Семья эта вообще «подкачала»: дочь Литвиновых, Татьяна, известная переводчица, позднее уехала в Англию, две ее дочери, двоюродные сестры Павла, тоже. (С одной из них, красивой Верочкой, я имел удовольствие познакомиться в Лондоне, где она жила с десятилетней дочерью в плохо отапливаемой квартире и в несколько стесненном материальном положении, подрабатывая мытьем лестниц. Потом зато стала ведущей на Би-би-би.)
Читать дальше