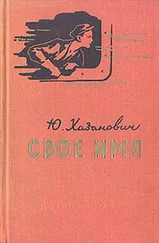Чалкин изловчился, нагнал его, схватил за куртку.
— Пусти, ты чего? — сказал парень, пытаясь вырваться.
— Не тычь мне, шкет! — заорал, бледнея, Чалкин.
После войны у него появилось это неприятное свойство — бледнеть от злости; не может забыть, как однажды ночью в Костроме опоздал на московский поезд, и тот уже тронулся, а проводница не пускает в тамбур и требует билет, который он не успел достать заранее, и вдруг злобно крикнула:
— Не бледней! Чего бледнеешь? Ишь ты…
Эти слова так взбесили его, что он с силой оттолкнул проводницу и ворвался в вагон, чувствуя, что мог убить её в ту минуту…
Парня, от которого он получил толчок, нисколько не интересовал цвет лица Чалкина, он молча вырывался, вокруг стали уже собираться люди.
— Вести себя не умеешь в общественном месте! — кричал Чалкин. — Хулиганишь! Даже головы не повернул! А если бы я упал? Переступил бы и дальше пошёл? Вот, пожалуйста, молодёжь… Ни чести, ни совести!.. Стой, когда с тобой старшие говорят! Безобразие какое! Дальше уж некуда!
Чалкин глядел на скуластую, веснушчатую физиономию с плоским носом, на поднятый узкий воротник, на шапку, неизвестно как державшуюся на кудлатой голове, и его переполняло благородное негодование. Кроме того, он видел, что их довольно плотно обступили, и, значит, было для кого говорить.
— …Воспитывают вас, воспитывают… В школе, везде… — говорил он банальнейшие слова, которых тщательно старался избегать в своих статьях и выступлениях, но сознавал, что сейчас не лучшее время и место для отработки стиля: окружающие и так поймут и поддержат.
В самом деле — на лицах у всех было сочувствие, негодование, если не презрение.
Но только что это? Не ослышался он?..
— Чего этот к пареньку пристал? — донеслось до его ушей. — Связался чёрт с младенцем… Все они такие… Слышь, пусти парня… Чего вцепился? Толкнули его… Нежный какой…
Чалкин почти онемел. Как если бы, включив трёхпрограммный радиоприёмник, он по всем трём программам, вместо привычных для уха сообщений о выполнении и перевыполнении, о воодушевлении и всенародном одобрении очередной зауми «нашего Никиты Сергеевича», услыхал бы информацию о голодном бунте в Новочеркасске или о стачке на заводе имени Ленина где-нибудь в Запивонске.
— Товарищи, — сказал он, всё ещё не веря своим ушам, — я же чуть не упал, понимаете? Он же пихнул меня так, что я… А с него, как с гуся вода… Я же ему в отцы… Войну прошёл… Товарищ майор, вот вы видели…
— Ничего я не видел, — сказал майор. — Бросьте вы…
Махнул рукой и ушёл.
— Ну, а вот вы?.. — продолжал вопрошать Чалкин жалким голосом. — Вы сбоку были… Он же мне в сыновья… А если бы я упал?.. Я же с работы… трезвый… продукты везу…
— Кончай, батя, волынку, — сказал кто-то.
— Всегда они всем недовольны, — сказал другой. — Не угодишь на них.
— Вояка, — проговорил третий. — Знаем… На третьем ташкентском…
— Трезвые, — уверенно сказал ещё кто-то, — они похуже пьяных…
И была в этих словах о «ташкентском» фронте и о трезвости железная и страшноватая логика таких давно устоявшихся полубессмысленных фраз, как «а ещё в шляпе…», «лучшая рыба — колбаса» или пострашнее: «если враг не сдаётся, его уничтожают…»
Люди начали расходиться.
— Паренёк, — ласково пропела мороженщица, — давай сюда… Вот так…
Она своим ледяным ящиком оттеснила Чалкина от парня, и тот благополучно исчез за дверями вокзала.
Чалкин ехал на дачу в ужасном состоянии, совсем, казалось бы, несообразным с тем, что произошло.
Ну, что, казалось бы, такого? Ну, ещё одно проявление всенародного хамства, ставшего, или всегда бывшего, национальной чертой. Генетической, что ли — если он правильно понимает это слово. Хотя, чур меня! Ведь сейчас, в конце 50-х годов, за одно лишь слово «генетика» люди расплачиваются потерей работы. В лучшем случае. А в худшем — и если вы, не дай Бог, поверили в хромосомную теорию наследственности, измышленную неким Менделем и развитую Томасом Морганом, то вам уж не то что работы, но и свободы век не видать! (Грегор Мендель, он, между прочим, совсем не тот, за кого вы могли бы его принять, но австрийский монах и большой, видать, любитель гороха, который и помог ему сформулировать свои правила распределения наследственных факторов, впоследствии названных генами. Его последователем, помимо Моргана, был и наш Сергей Вавилов, учёный с мировым именем, погибший в советской тюрьме… Но это так, к слову…)
— …Нет, такого не бывало, — повторял Чалкин, топчась по небольшой кухне. — Я, как и вы, не разбалован нашими общественными взаимоотношениями, но то, что сегодня… просто ни в какие ворота… Пока ехал сюда, представил, что свалился бы от толчка, и у меня прихватило бы сердце, тьфу-тьфу-тьфу! Или ногу свело… Этот самый… сосудистый, как он называется?
Читать дальше