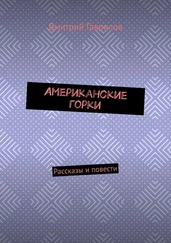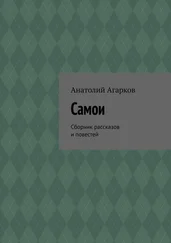Он стал рассматривать личные фотографии, которые теперь можно переселить из альбома общего в альбом личный.
Таковых набралось десятка полтора: школа, ФЗУ, армия, женитьба, первомайская демонстрация, поездка в Горловку…
И впервые в жизни ему бросилось в глаза, что на всех фотографиях он почему-то хмур, напряжен, насуплен, и только на одной, совсем уже пожелтевшей, он улыбается: голенький, пухленький, задрав ножки и выставив два первых зубика, он лежит на каком-то цветастом коврике и улыбается…
На обратной стороне — выцветшая, корявая надпись: «Коли годик»…
— Коли годик, — вслух произнес Николай Иванович.
За окном сгущались сумерки.
Завыл Шарик.
Стемнело.
Дочь за стеной включила магнитофон: «Жизнь невозможно повернуть на-зад…»
Подшефный колхоз находился за аэропортом и воинской частью.
Остановились у конторы. Старший пошел узнать, что делать. Перекуривали, пили из колодца воду, читали на двери: «Сегодня состоится тов. суд над Диканевым и Диканевой».
Однобокий тополь лениво шелестел пыльными листьями.
Однорукий колхозник выдал тяпки.
Из конторы выглянул одноглазый человек и приказал однорукому ехать с городскими.
Остановились у поля, густо заросшего желтой сурепкой.
Однорукий отсчитал ряды и сказал, что каждому нужно сделать ряд туда и обратно, оставляя за один погонный метр не более четырех единиц культуры.
Полоть старались быстро, чтобы до жары выполнить норму и уехать домой.
Шли плотной группой, переговаривались, затем растянулись, замолчали.
Жаворонки посвистывали в безоблачном небе.
Припекало.
На другом конце поля стояла бричка с водой. Одноухая лошадь уныло смотрела в жаркую землю. На бочке сидел одноногий водовоз.
Пили воду, перекуривали и двигались в обратный путь.
Последним поднялся Дмитрук, термообрубщик, год назад переехавший из деревни Выползово в город.
— На работе жара, тут жара, — пробормотал он, выпивая еще кружку воды.
— Жара! — весело отозвался водовоз.
— А ты молчи! — крикнул Дмитрук. — Инвалидами тут заделались, а за них паши! Утесовы!
Водовоз молчал.
Жаворонки молчали.
Струилась жара.
Все молчало.
Иван Сергеевич купил дачу: не очень дорого, не очень далеко, приличный домик, яблони, малина, крыжовник…
Место слегка возвышенное. Справа — террикон отработанной шахты, слева — кладбище, внизу какой-то отстойник, на горизонте — трубы, конусы и пирамиды металлургического комбината.
Центральный въезд украшен ажурной аркой с золотыми буквами: «Тимирязевец Донбасса».
Слева от арки — щит объявлений, справа — щит запретов.
Почва тяжелая, с арматурой.
Вода по графику.
Собрания, взносы, рейды-проверки.
Сосед слева — вор, сосед справа — наглец.
В часы захоронений со стороны кладбища доносятся тяжелое завывание труб и буханье барабана.
При встречном ветре дачная местность накрывается дымом, пеплом и пылью коксохимзавода.
По ночам отстойник пугающе светится, фосфоресцирует.
Налеты хулиганов из ближайшего поселка и города.
— Ну, как тебе наша дача? — спрашивает Иван Сергеевич.
— Да так… ничего, — отвечает жена.
— Ничего — пустое место! Нравится или нет?
— Ну нравится…
— А ты мне, пожалуйста, одолжение не делай! — сузив глаза, сказал Иван Сергеевич. — Тебе, я вижу, здесь все не нравится: воздух, вода, климат… Так в чем дело? Не нравится — на все четыре стороны! Никто не держит! Скатертью дорожка! А это… моя родина, здесь я родился, вырос, человеком стал… почетным железнодорожником! И под забором, как твоя родня, не валяюсь, и в ЛТП не лечусь! И я… и я не позволю, да, не позволю, чтобы каждая шмакодявка мою родину оскорбляла!
— Да кто оскорбляет, Ваня? Что ты плетешь?
— Не нужно! Я все вижу и понимаю! Всякая голытьба будет здесь критику разводить! Вода не такая, воздух не такой! Люди здесь, видишь ли, не говорят, а хрюкают!
— Да что ты сочиняешь, Ваня? Что с тобой?
— Молчи! Я все вижу и понимаю — не дурак! Не нравится — на все четыре стороны! Примадонна! Забыла, откуда и с чем приехала? Да и что твоя родина, что?! Да там же… да там же никогда не было, нет и никогда не будет колбасы!
И, успокоившись, Иван Сергеевич с уважением подумал о колбасе.
Рассказ незнакомого человека
Вчера вечером ко мне на лавочку подсел незнакомый человек, попросил закурить и рассказал следующую историю: «В 1964 году я окончил школу и по протекции поступил на металлургический завод учеником модельщика. Позже я понял, что никакой нужды в протекции абсолютно не было. Модельное дело у меня не пошло. Я никак не мог усвоить самого простого чертежа. Я возненавидел модельное дело. Вместо работы я отправлялся на пляж. К вечеру от жары, шума и созерцания женских тел вспухала голова. Ночи были душные, липкие. Осенью призвали в армию. Там я познакомился с дивизионным библиотекарем Вегертом. Его познания смяли меня, опрокинули. У меня стали дрожать руки. Скорлупа лопнула, ветер вздыбил жалкие перья. Космические протуберанцы ударили в дыру. Мир дымился в развалинах. Пыль открывшейся бездны выедала глаза. Из березы сочилась кровь. Я испугался и стал избегать Вегерта. В 1968 году пришло освобождение, и я снова уполз в свою скорлупу. Мне казалось, что за эти годы я поумнел, но это было не так, ибо я снова пришел в модельный цех. И снова все повторилось: полнейшая неспособность, прогулы, пляж, вспухание головы, душные, липкие ночи. Ушел в гараж по ремонту автомобилей. Работа была грязная, платили копейки. Мир стал куском голубого солидола с песком. Лица вокруг — от шофера до начальника — являли собой последнюю степень упадка и вырождения. Ушел в горгаз. После гаража это был рай. Работал один, поборами не занимался, скорлупа постепенно стала наполняться запахами прелых листьев и моря, но через два месяца сблизился с Демерджи и Шапкой, втроем ходили по адресам, вымогали у абонентов деньги, пьянствовали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анатолий Гаврилов Берлинская флейта [Рассказы; повести] обложка книги](/books/228661/anatolij-gavrilov-berlinskaya-flejta-rasskazy-pov-cover.webp)
![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)

![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)
![Анатолий Гаврилов - Вопль впередсмотрящего [Повесть. Рассказы. Пьеса]](/books/228660/anatolij-gavrilov-vopl-vperedsmotryachego-povest-thumb.webp)
![Анатолий Алексин - Мой брат играет на кларнете [Повести и рассказы]](/books/397351/anatolij-aleksin-moj-brat-igraet-na-klarnete-pove-thumb.webp)