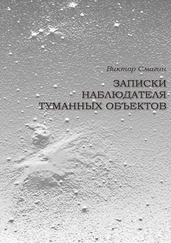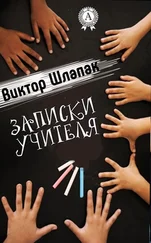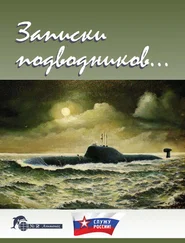Как сейчас вижу: Сева, стоя посреди кухни, кричит:
— ...Но Северин Меламуд на лекции в библиотеке Блока разъяснял...
Что он там разъяснял, боже мой!..
Потому-то понятно, как Сева мог встретить предложение Людмилы хабаровской. Еще при въезде в квартиру она, улучив минуту, задала ему задачу: что если они с ним, с Севой, распишутся? Причем, он прописывает на свою площадь ее с дочерью?..
Представляю, какая была минута тацитовского оцепенения, выпадения... Она по-своему истолковала его затянувшееся молчание:
— Я знаю, в таких случаях надо платить... давать деньги... Но скажу откровенно: денег-то у меня как раз нет!..
Про Николу, мужа хабаровского, почему-то не вспоминала. Денег нет, и мужика как бы не существует. Но ведь он был, он есть — со своими татуированными руками и ногами!
«Куда же ты Николу денешь?» — вертелось на языке у Севы, когда он несколько пришел в себя от неожиданного предложения. И додумывался вот до чего — мне об этом сказал: «Вы же потом, голубчики, меня, чего доброго, и прибьете!.. Всего можно будет ожидать. Не-ет уж!»
Это все он рассказал мне нынче, а зимой лишь что-то брезжило, когда с ним вспоминали о Людмиле, но не договаривал, как всегда. Нравилась ли она ему? Не знаю. Должно быть. Она же что-то видела, чуяла; перетекала эта темная волна любопытства к чужой неустроенности, жадность играла, женское не исчезающее всемогущество...
Когда Николу посадили, к Людмиле — дело было днем — приходил кто-то из института. Откуда такая уверенность? Прозвучала громко некая фраза, в ней что-то об институте... Сева как раз был дома, но затаился, молчал. Последний шанс она использовала тогда — мнение Севы. А потом, спустя часа полтора, этот институтский почему-то никак не мог отыскать выхода из квартиры. Это днем-то!.. И где-то в недрах — в умывальную, без света, комнату попал, что ли? — слышалось: «Кто-нибудь — выведите меня!..» Что-то сгрохало. И опять, теперь уже паническое: «...Выведите меня!» Людмила не подавала голоса. Выбрался в конце концов сам, по пути злобно пнув «Шидмайер», который виновато блямкнул клавишей.
«Пишу в ночь на 19 августа. Тацитов только что приехал с танцев, бывших где-то за городом, где собираются они всем клубом...» —
эта запись позапрошлого года помечена у меня зеленой птичкой. Ведь нелепость очевидная: мужику почти пятьдесят, а он возвращается с танцев!.. Но тогда, помню, глядя на возбужденно-улыбчивого Севу, я меньше всего думал о его возрасте. Танцы так танцы! Я только вглядывался в него, пытаясь понять... Чего я хотел от этого человека? Сам не знаю. Понятно было, что «Дриада» притягивала его великим «может быть». Газеты начинали писать о неформальных объединениях сочувственно.
С его слов я немного знал «Дриаду». Она была гонимой — на протяжении многих лет. Помещения отнимались, робкие попытки отстоять их пресекались. Длился п е р и о д с а д а. Это значило: собирались в саду при Дворце культуры имени Кирова на Васильевском острове. Летом — ладно, а зимой? Все держалось на двух энтузиастах, они же хранители картотеки. Если б не они!.. Сева головой мотал, прогоняя такое предположение, ужасался: «Все бы погибло, «Дриада» исчезла...» Девять лет несменяемы по доброй воле. Фамилии их не назывались — никогда, ни при каких обстоятельствах. Как будто назвать их — значило выдать тайное тайных, — и «Дриада» изойдет, растворится в кустах, деревьях, оградах, шорохах...
Одно время ездили в Выборг, где жил тогда Меликян. О Меликяне. Надо бы поподробней о нем! Но где их взять, подробности? Вот скудное Севино... Он — журналист, правда, малоизвестный, зато закоперщик всего, основатель; «Дриада» — его создание. Меликян придумал следующее: они — все вместе! — пишут пьесу. Каждый предельно самовыражается — мужчины, женщины; опыт любви, всех бед, собственных нескладиц — туда... «Это будет великая Пьеса Жизни! — увлекал их Меликян. — Несочиненная, а прожитая...» Всяческую театральщину предлагал презирать. Ложь драматическую поносил страшно. Раз и навсегда отмел навязываемое; эстрада, синтез искусств его не устраивали — «Ложь, — кричал, — в сердцевине — ложь!..»
— Вартан Меликович, — спрашивали у него дамы, мялись, — мы все же хотели бы выяснить, как нам быть? Некоторые моменты в жизни женщины...
— Пишите! — кричал. — Некоторые моменты? Прекрасно! Что выйдет... Никаких выяснений!.. Жизнь сама скажет.
Она и сказала.
Вышло так, что Меликян разругался с женщинами в пух и прах, они почему-то на него обрушились, обвинили в несуществующих грехах, претензиях на оригинальничанье, — поэтому ушел непонятым. Но была предыстория... Прежде он женился на какой-то приезжей, к «Дриаде» не имевшей отношения. И женщины восстали.
Читать дальше