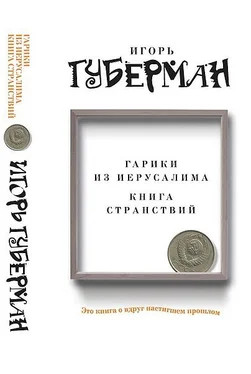— Ты чудак на букву «м», Мироныч, — пояснил мне приятель. — Ты сидишь, курлычешь и курлычешь, а ведь ей не Бунин нужен, а ебунин. Мы зазря, что ли, уходим? За тебя обидно. Ведь неглупый с виду человек.
До сих пор не в силах объяснить я, даже сам себе, отчего залился краской стыда и грусти. И забавно, что, подслушав словно этот разговор, ко мне она уже не приходила. Здоровалась, не отводя глаза, порою улыбалась, но закончились, как их отрезало, высокие беседы о культуре. Если честно говорить, мне еще долго была обидна очевидная правота моего приятеля. Я клекотал, как образованный осел, истосковавшийся по интеллигентскому трепу, а меня клеили на предмет вульгарного употребления.
Глава эта была бы не полна без краткого упоминания о том кошмаре, что когда-то пережил мой приятель. Бывалый многоопытный ходок, однажды познакомился он с юной дамой, занимавшейся балетом и всяческими изощренными танцами. Довольно быстро сговорив ее на тайное свидание, привел куда-то, куда всех, налил по рюмке — раздеваться они начали одновременно. Все было привычно и легко. Она уселась на него с завидным проворством, он тоже любил эту позу, им обоим оказалось сразу очень хорошо. И тут — рассказывая это (слышал раза три), приятель мой зажмуривал глаза, переживая заново, — она запела. Оперную арию. Во весь голос. Продолжая совершать все нужные движения, но еще и чуть раскачивая головой в гармонии с вокалом. Ужас, обуявший моего приятеля (а видывал он всякое и разное), словами был явно непередаваем — он возводил глаза к небу, взмахивал руками и пошевеливал пальцами, словно музицировал на пианино или лихорадочно пытался нащупать что-то в полной темноте. А мысли — он рассказывал о них — очень забавные текли и очень поучительные: если не стану импотентом, думал он, то больше никогда не буду изменять жене.
Конечно же, о странностях любви писать серьезно — глупо и неосмотрительно, ибо веками тысячи различнейших людей описывали это дивное состояние со всеми присущими ему нюансами и тонкостями изъявлений. А впрямь со всеми ли? И ярая надежда что-то высказать отъявленно свое вновь и вновь ведет перо моих коллег. И часть из них (счастливые люди) уверена в успехе. Я бы в назидание нам всем печатал всюду вечную, по-моему, нетленную историю о том поэте-идиоте (он уже покойник, так что имя ни к чему), который как-то запоздал к обеду в Доме творчества, а на вопрос, чем он был занят, ответил лаконично и величественно:
— Писал сонет о любви. — И, помолчав, добавил: — Закрыл тему.
Хоть помню я пример этого счастливого человека, удержаться не могу. И наплевать мне, если то, что я хочу сказать, уже десятки или сотни раз написано в нечитанных мной книгах. Нечто есть, так остро пережившееся лично мной (да и поныне мне знакомое), что нестерпимо хочется сказать всерьез и вслух. Ибо одна из ярких странностей нашего чувства состоит в том, что любовь — это постоянный и неизбывный страх. Нет, нет, не потерять любимую, об этом знают все, я говорю о страхе обидеть. Нечаянной шуткой, неловким словом или даже взглядом, я уж не говорю о поступках. И забавно мне, что этот страх тянется не годами, а десятилетиями. Страх этот часто раздражает, но такой он непременный спутник всякой близости и преданности, что любовь в этом смысле — самая изнурительная из благодатей, нам дарованных природой.
Ну, а коль упомянули мы боязнь потери, то еще одну историю я не могу не вспомнить. В шестьдесят каком-то плыл я по Енисею из Красноярска в Дудинку, был я журналист, и капитану мелкого пароходика было со мной пить столь же лестно, как и мне с ним. А когда мы проходили (день на третий с отплытия) пару маленьких поросших лесом островков — я их названия помню и посейчас — Кораблик и Барочка, то повестнул мне капитан, что года три назад он увозил отсюда на судебно-медицинскую (точней — психиатрическую) экспертизу местного бакенщика.
— Понимаешь, — говорил мне капитан, — этот мужик в Гражданскую войну пристал к какому-то отряду, уж не знаю — белых или красных, только драпали они в тайгу, и заблудились там, и стали подголадывать — охота, видно, их не выручала или стрелять боялись, чтоб не обнаружиться. Короче говоря, кого-то они съели из своих. И стали как бы людоедами. А скольких они съели, я не знаю, но мужик этот, он вкус человечины запомнил на всю жизнь, рассказывали мне, что так бывает. После он сюда в деревню возвратился, оженил его родитель, порыбачил он немного и на эти островки определился. Бакенщиком он работал много лет, и не упомнит уже никто, сколько именно. И баба его там же с ним. Потом и дочка завелась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу