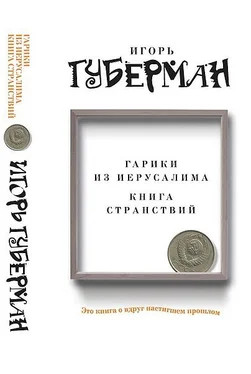— Старина, я знаю, что вы пишете стихи, и вы настолько благородны, что ни разу мне об этом не сказали. А давайте-ка проверим вашу рифмовательную жилу. У меня две строчки есть, а еще две я к ним никак не сочиню. Попробуйте?
И я прочел ему две никчемные строчки, развивать которые довольно было тяжко, ибо в них ни мысли, ни завязки темы не было:
На седьмом десятке
лет деду сделали минет.
Но Саша вызов принял. Он минут, наверно, двадцать помолчал, раздумчиво сопя, а после гениально продолжил:
Дай вам Господи, отцы,
как тот дед, отдать концы.
А теперь меня сквозь время и пространство переносит память в Башкирию, где после института я работал машинистом электровоза. В оборотном пункте (это место, где кончается маршрут бригады, и где мы, немного отдохнув, принимали встречный состав, чтобы вести его обратно) — в городке Абдулино был так называемый бригадный дом, где можно было душ принять, поесть и отоспаться. Там работала буфетчицей огромная расплывшаяся баба с мятым и давно уже непривлекательным лицом (еще немало безобразили это лицо следы от оспы), с визгливым истеричным голосом и мерзейшими повадками советской продавщицы со стажем. К этой бабе наши машинисты в очередь стояли, чтобы переспать, не раз и мне с восторгом говоря, что это нечто умопомрачительное, и дурак я полный, что так морщусь. Я тогда стал исподволь поодиночке их расспрашивать, и только из третьего или четвертого рассказа смутно высунулась истина и подоплека общего восторга и влечения. Вернее, я ее не сразу опознал. И в ужас я тогда пришел по молодости лет. Оказалось, что таинственной изюминкой в этой кошмарной с виду и немолодой женщине была некая особенность ее постельного поведения: дурным и громким голосом во время траханья она безостановочно кричала одно слово. «Зарежу!» — кричала она каждому мужику. И они получали от этого аккомпанемента странное и сильное удовольствие. Это было, по всей видимости, нечто вроде острой приправы к их обыденно усталой семейной жизни, где давно уже секс превратился в забаву бытовую и рутинную, вроде будничной гигиены тела.
Надо бы вспомнить что-либо высокое, а потому здесь будет кстати некая история о мужском благородстве. Я человека этого уже не застал, он дружил с Сашей Окунем — от Саши и история. Шломо Вебер был еврей из Литвы, совсем юношей ушел на фронт, а в Вильнюс свой когда вернулся — обнаружил, что всех его родных и девочку, в которую он был влюблен, перебили литовцы еще до вступления немцев в город. Больше он там жить не мог. Он переехал при первой же возможности в Израиль, стал работать в Иерусалиме на радио, а все свободное время проводил в путешествиях — спал он с женщинами во многом множестве стран. Это увлечение занимало его целиком, больше он ничем в жизни не интересовался и ни о чем ином не разговаривал.
— И какая же у тебя была самая лучшая? — естественно, спросил однажды Сашка.
— О, самая лучшая была у меня в Эфиопии! — с уверенностью ответствовал Шломо.
— Черная? — плотоядно изумился Сашка.
— Что вдруг? — сказал Шломо. — Секретарша директора нашей авиакомпании.
И вспомнил, кстати, что была у него однажды и девица из России.
— Судьба как-то занесла меня в Индию, — повестнул он. — Там были соревнования волейболисток со всего мира. И я с одной девчушкой из России там случайно познакомился. Большая, с изумительной фигурой, дивное лицо, глаза лучистые, коса до попы, ей она играть мешала, но она не стриглась — полное счастье. Мы с ней полностью нашли общий язык, по городу бродили, где-то выпивали в забегаловках, хотя они и числились как рестораны, обсуждали все на свете…
— А постель, постель-то? — нетерпеливо спросил Саша. — Как она была в постели?
И сказал Шломо в ответ редкостного благородства фразу:
— А постели не было, я ее и пальцем не тронул. Она вся такая юная была, а я смотри, какой уже потрепанный — я боялся уронить честь своего народа.
Но пора мне вспомнить о сибирской ссылке, я себя однажды там таким почувствовал фраером и лохом, что приятно рассказать об этой даме. Не могу пожаловаться, что мне там не хватало общения — мы и с женой каждый вечер выпивали, обсуждая все на свете, на работе сплошь и рядом попадались уголовники, от которых я не мог отлипнуть, любопытствуя, и местные порой рассказывали за бутылкой всякое про раскулаченных родителей, когда-то чудом выживших в этих краях, а летом навещали нас друзья и родственники. Но все-таки раскидистого трепа за всю масть и всю культуру — как бывало на полночной кухне у меня или друзей — мне, очевидно, не хватало. Потому что, когда в нашей каморке для дежурных электриков появилась некая маляр-шаштукатурша, с ходу меня спросив то ли про Камю, то ли про Сартра, я взорлил, как полковая лошадь от военной музыки. Каторжной работой этой — штукатурить необъятные поверхности большого здания, а после красить их — занимались исключительно женщины. Расплывшиеся от целодневной физической нагрузки, наглухо одетые (холодная сырость и неотвратимые брызги раствора) в ватники, заляпанные краской и цементом, такие же брюки (в еще более кошмарном виде) и косынки до бровей — на женщин походили они мало. Ругань их была тяжелой, неуемной, походила более на вздох угнетенной твари (как писал Карл Маркс о назначении религии) — короче, равноправие женщины достигло тут, как и многое другое в империи, предельного и дикого воплощения. И та, что заглянула, чтобы поболтать со мной о ком-нибудь из жизни не отсюда, от коллег своих ничуть не отличалась. Некогда закончив театральное училище в Ташкенте, вышла она замуж за какого-то местного человека, а когда поняла, что он законченный и безнадежный наркоман, уже родились двое. Подалась она в Сибирь на заработки, выживая вот такой ценой, чтобы поднять детей. Ей было меньше тридцати, и голос молодой, а на лице уже обосновалась тень той жизни, что досталась ей в богатой заработками Сибири. Что ни день, она заглядывала к нам, и Станиславский был бы счастлив, слыша, как мы говорили о его системе (до сих пор я ничего о ней не знаю, но разговор поддерживал легко). А от Лопе де Вега до Набокова гуляли мы привольно, как вор на отдыхе — по вокзальному буфету (феня у всех этих штукатурш была отменная — годами они работали бок о бок со шпаной, пришедшей из тюрьмы). Она ждала моих дежурств и приходила ближе к обеду, чтобы лишних было четверть часа. Как только она входила, мои напарники вставали и растворялись где-то в здании. Я их тактичность искренне воспринимал как нежелание участвовать в чужой и невнятной разумению беседе. Так недели две прошло, и как-то посреди ее горячечно-любовных слов о Бунине в дверь осторожно заглянул мой приятель, полчаса назад ушедший с ее появлением, а тут возникший. Надо было срочно менять воздуходувки, которые сушили стены. Собеседница моя немедленно ушла, жарко договаривая что-то о Бунине, а мой приятель на меня смотрел как-то глумливо, чуть ли не презрительно, и я его, естественно, спросил, в чем дело.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу