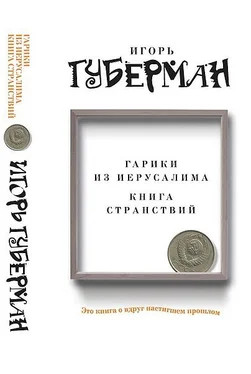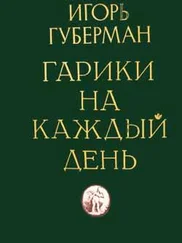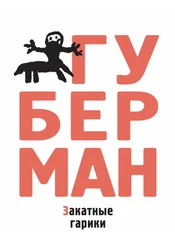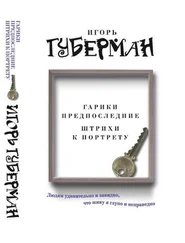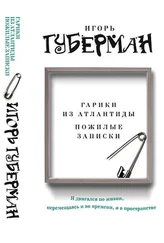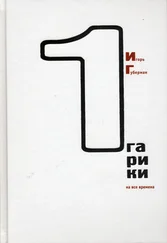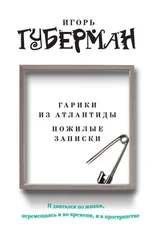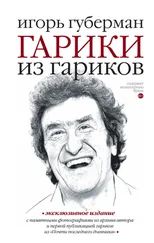А главу эту закончить я хочу одним сном моего друга Володи Файвишевского. Он заявился в гости к Льву Толстому, и ему там очень интересно. Очевидно, Софья Андреевна в отъезде или нездорова, потому что престарелый граф хлопочет сам, усердно накрывая стол для гостя. А еще сидят в той комнате человек двенадцать других приглашенных — у них донельзя серьезные, даже насупленные лица, твердый неподвижный взгляд у каждого, они полны глубокой значимости своего существования. Володя замечает с ужасом, что у многих чуть окровавлены штаны, а из ширинок торчат куски бинтов. И, как это сплошь и рядом постигает нас во снах, он ясно понимает, что всех этих людей недавно оскопили. Улучив момент, он тихо спрашивает у Льва Николаевича, кто эти люди. О, говорит ему Толстой, это известные борцы за истину и справедливость, неуклонные ревнители высоких всяческих идей, фанатики нравственного улучшения человечества.
— А почему же и зачем их оскопили? — удивляется Володя Файвишевский.
— Чтоб не отвлекались, — жизнерадостно ответил Лев Толстой.
Часть III
В огороде сельдерей
О евреях и других аномалиях
Честно сказать, мне связываться с этой темой вовсе не хотелось. Все, что я думаю о нас, я изложил (и продолжаю, слава Богу) в своих стишках. К тому же мы обидчиво чутки к любой попытке нас затронуть даже словом — это более всего похоже на чувствительность дворовых кошек: чуть напрягшись, они следят за вашим малейшим жестом, но с места не уходят. Да еще столько понаписано про нас — и за, и против, и негодующее против против, только ситуация по-прежнему та же, что была многие века до нас. Цивилизация то сглаживает ее, то дикий смерч опять вздымается до неба, явно Бога не тревожа, ибо Он давно уже пустил наши дела на самотек. Ну, словом, не хотел.
Но как-то раз попались мне заметки (пышно именованные «эссе») одного российского прозаика. Что он еврей, я догадался бы легко, даже его не зная: только еврей может копаться так самозабвенно в темной русской истории отошедших веков. А в заметках (прошу прощения — в эссе) затронул автор забавную для него (не более того) тему своего еврейства. Простодушно написав, что в нем шевелится какая-то смутная нежность, когда, идя случайно мимо синагоги (из Исторической, он подчеркнул, библиотеки, где сподниза копал историю России), видит он замшелых стариков при бородах и часто даже пейсах. Это легкое чувство, овевающее вдруг его светлую душу, совершенно сродни той нежности, сообщил нам автор, что ощущает он к соболельщикам своей любимой футбольной команды. Тут я что-то разозлился, хоть, конечно, был не прав, ибо любой человек имеет право на любое чувство, честь и хвала прозаику, который их описывает честно и открыто. Хотя есть еще прекрасная возможность промолчать, но мы ей пользуемся редко. Я даже вспыхнул, чтобы написать ему что-нибудь язвительное, но быстро передумал. С какой бы стати мне ему писать? Он — известный русский прозаик, а я простой еврейский никто. Его Россия полностью впитала и переварила (ассимилировала — мечта множества евреев), а меня исторгла, как кит — Иону, и правильно сделала, поскольку переваривался я довольно плохо (хотя, видит Бог, хотел по молодости лет). Я все это чуть позже вспомнил, когда в Москве поехал навестить родителей на еврейское кладбище в Вострякове. Хрестоматийно русские березы и осины тихо шелестели листьями на ветру, и евреи, привозимые сюда, достигли уже полной ассимиляции, словно некие подберезовики и подосиновики. Именно здесь я вдруг отчетливо сообразил, что двигали моей воздержанностью не лень и не гордыня застенчивости, а памятное мне событие (употребленное мной слово — не преувеличение), та некая давнишняя история, к которой я сейчас перейду.
Не написал я свой заведомо бессмысленный укор, поскольку много лет назад оказался в числе первых слушателей того известного письма, что написал некогда историк Натан Эйдельман известному русскому прозаику Виктору Астафьеву. Я к Тонику Эйдельману всегда испытывал невероятное (и редкостное для меня) почтение, что дружеским отношениям изрядно мешало, но ничего с собой поделать я не мог. А тут — решительно, хотя несвязно и неубедительно — стал возражать. Многие помнят, наверно, что письмо это упрекало Астафьева в некорректности к национальным чувствам грузин — да еще тех, чьим гостеприимством Астафьев пользовался, будучи в их краях. Я сказал Тонику, что письмо это (еще покуда не отправленное в Красноярск) неловко выглядит — как некое послание провинциального учителя-зануды большому столичному лицу со смиренной просьбой быть повежливее в выражении своих мыслей. Я говорил и чувствовал, что говорю что-то не то, и был я справедливо не услышан. А через короткое время (уже и свой ответ Астафьев написал, уже известны стали эти письма и повсюду обсуждались) ехал я из города Пярну, возвращаясь домой в Москву. А так как приютивший меня в Пярну (прописавший у себя, чем жизненно помог) Давид Самойлов собирался в Таллин, то и я с ним увязался на автобус. Поэта Самойлова радостно и любовно встречали местные журналисты, мы очень быстро оказались на какой-то кухне, где был уже накрыт стол для утреннего чаепития. Но Давид Самойлович сказал свои коронные слова, что счастлив чаю, ибо не пил его со школьного времени, и на столе явились разные напитки. Хозяев очень волновала упомянутая переписка, они сразу же о ней спросили, я было встрял с рассказом (Давид Самойлович был сильно пьян, в тот день мы начали очень рано), но старик царственно осадил меня, заявив, что он все передаст идеально кратко. И сказал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу