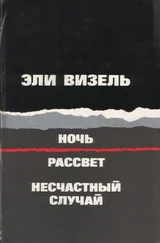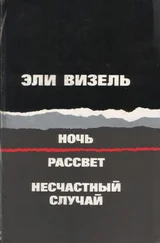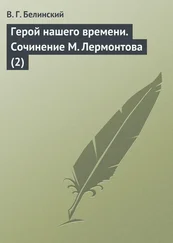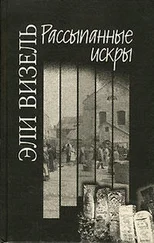Гиды-профессионалы, пастыри туристов, уже не замечают нашего присутствия. Вооруженная охрана оставляет нас в покое. Мы безобидны, мы никому не мешаем. Раньше-то мы их интересовали, особенно вначале. Одни смотрели на нас подозрительно, другие — с тревогой и некоторым почтением: почему это мы не уходим домой? Ведь должен же у нас где-нибудь быть дом, верно? Залман, бродяга с дурным характером, когда его спрашивали об этом, отвечал: «Хорошо, я пойду домой — завтра». Почему он так говорил? Чтобы избавиться от приставаний, или он сам в это верил? Не знаю. Да и он не знает.
— Ну, а тебя что здесь держит? — спрашивали Мена-ше, который считает себя профессиональным сватом и трубадуром тоже.
— Вечерняя звезда как раз тут встречается с утренней! — отвечает он, подмигивая. — Я люблю их встречать и провожать, а больше всего люблю присутствовать на их свадьбе.
Робкий Яаков, пряча пальцы в густой бороде, объясняет, заикаясь:
— Здесь слово и молчание согласованы. Я люблю и то и другое. И здесь я их не боюсь.
А Шломо, прикрывая веки рукой, шепчет:
— Что сказать? У меня нет ответа. Я мог бы уйти, но предпочитаю оставаться. Здесь всякое ожидание получает смысл, даже если вначале оно смысла не имело.
И в конце концов к нам привыкли. Когда последний турист покидает город, мы тут хозяева. Приходит вечер, и нам принадлежит место, где раньше был двор Храма.
С высоты стен солдаты с винтовками наблюдают, как мы шушукаемся; им смешно, но иногда они придают своим лицам выражение фальшивого сочувствия. Случается, мы их подзываем. Как они тогда теряются! Мы уж и смеемся, и рожи строим, чтобы их подбодрить: ну, полно, никто вас не укусит, идите сюда, да засмейтесь же, ничего вам за это не будет! Я смотрю на них и думаю: точь-в-точь те огневые вояки, которых я наблюдал перед боем — и сразу после. Как они гордились, идя в бой, своей силой и твердостью! А потом я видел, как они уходят — по-прежнему прямые, но смирившиеся, растерянные, словно увидели сон, пережитый в прежнем существовании, сон, который сильнее жизни. И, чтобы продлить необычайное, чтобы задержать наступление минуты, когда опять все станет обыденным, некоторые присоединялись к нам — на одну ночь, на часок, на несколько минут, чтобы рассказать свою байку. Их байки бывали куда фантастичнее наших.
Муэдзин со своего минарета призывает правоверных на молитву. Туристы и гиды расходятся по машинам. Богомольцы у Стены поют псалмы или качаются в беззвучной молитве. Дремлющая жара начинает перемещаться. Тиски разжимаются, уже можно вздохнуть. Свет тускнеет и гаснет за пурпурной завесой, покрывшей верхушки деревьев. Чтобы прогнать умиротворение, которое охватывает меня, я вызываю в памяти лицо Катриэля. Где он? Вернется ли? Жив ли он еще?
А вот и Аншель со своими спутниками — Мохаммедом, Джамилем и Али. Как все мальчишки этого квартала, они торгуют карандашами, открытками, мелкими сувенирами. Аншель их лучший клиент. Он покупает их жалкие товары, не торгуясь. А потом выбрасывает, чтобы снова выкупить завтра.
Знает ли он, что из окон, выходящих на площадь, через щели в закрытых ставнях родители, стиснув зубы, смотрят на своих сыновей мрачными глазами? Нет, не знает. Он знает только одно: что и ему приходилось голодать, приходилось стыдиться. А сейчас страдает не он. И этого он все еще не может себе простить. Я люблю его поддразнивать:
— Значит, говоришь, дела идут неплохо?
Вместо ответа он что-то бормочет. Он злится и не знает, на кого. Зато я знаю: на войну. Сказать ему? Он пожмет плечами: слишком легко валить все на войну. Война — что это такое, кто это такие? Абстрактное зло с очень конкретными последствиями? Лучше уж верить в древних богов: богов грозы, дождя и ненависти.
— Война для меня, — говорит Аншель, — это лицо.
— Какое лицо?
— То одно, то другое; смотря в какой день.
— А сегодня?
— Лицо умирающего. Умирающего, который опять стал ребенком.
— И на него-то ты злишься? — спрашиваю я с притворным негодованием.
Он бросает недобрый взгляд:
— Замолчи!
Но тут он понимает, что я над ним подшутил, и садится со мной рядом. Площадь перед нами почти пуста.
— Я видел много мертвых, — говорит Аншель, словно извиняясь. — На некоторых я даже наступал. Война ведь! У меня не было выбора — я шел, не глядя под ноги. Тогда для меня война не имела лица. Война была чудовищем, убивавшим людей и срывавшим с них лицо. А теперь они мстят. Теперь я вижу слишком много лиц.
Он вытаскивает из кармана разноцветные открытки и начинает их тасовать.
Читать дальше