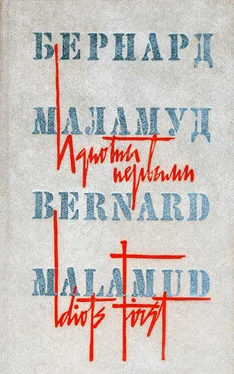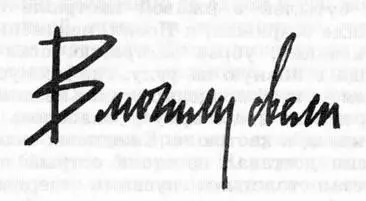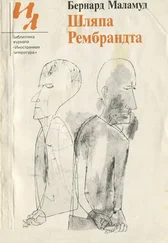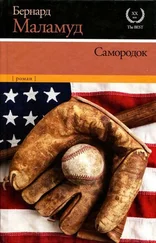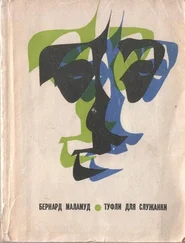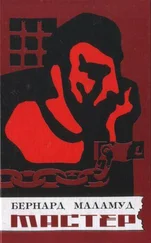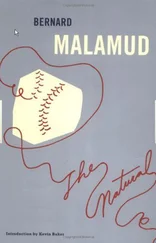— Не трудись понапрасну, — сказала Эсмеральда. — Мы в твоей помощи не нуждаемся.
— Я хочу подержать картину несколько дней у себя — поглядеть на нее, — признался Фидельман.
— Как вам угодно, — Лудовико приподнял шляпу, попрощался и, прихрамывая, ушел.
Фидельман и Эсмеральда легли спать вместе. Позже она ушла в кухню, на свою койку, сняла красную ночную рубашку, надела старую, белую миткалевую.
Фидельман некоторое время еще обдумывал, что бы написать дальше. Может быть, портрет Лудовико с отражающимся в зеркале лицом — две пары водянистых подлых глазок. Спал он хорошо, но посреди ночи проснулся в тоске. Сантиметр за сантиметром он вызывал в памяти свою картину, и она его разочаровала. Столько лет ухлопано на эту картину, и где, спрашивается, мама? Он встал, чтобы лучше приглядеться к картине, и переменил мнение: не так уж она и плоха, хотя Лудовико прав, колорит темноват, не мешало бы чуточку его осветлить. Он разложил краски, кисти, приступил к работе и чуть не сразу добился, чего хотел. Потом решил поработать еще над лицом девчонки — мазок-другой у глаз, у губ — не более того, чтобы еще лучше передать выражение лица. Чтобы в ней сильнее чувствовалась проститутка, себя самого чуть состарить. Когда через оба окна комнату залило ярким солнечным светом, до Фидельмана дошло, что он работает уже несколько часов кряду. Он отложил кисть, умылся и вернулся в комнату — посмотреть на картину. Ему стало тошно — он увидел то, чего и опасался: картина была испорчена. На его глазах она мало-помалу гибла.
Явился Лудовико в сопровождении хорошо одетого пузатого друга, торговца картинами. Они глянули на картину и расхохотались.
Пять долгих лет пошли насмарку. Фидельман выдавил тюбик черной краски на холст, размазал ее во всех направлениях по обоим лицам.
Эсмеральда отдернула занавески, увидела пачкотню, испустила стон и кинулась на него с кухонным ножом.
— Убийца!
Фидельман вывернул ее руку, выхватил у нее нож и в муке наставил лезвие на себя.
— Поделом мне!
— Вот это нравственный поступок, — согласился Лудовико.
В могилу свели
Пер. М.Кан
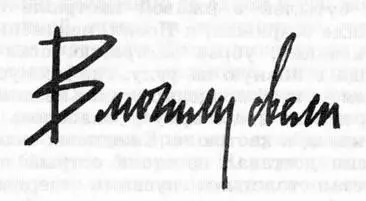
Маркус портняжничал издавна, с довоенной поры — легкого характера человек с копной седеющих волос, хорошими, чуткими бровями и добрыми руками, — и завел торговлю мужской одеждой в относительно пожилые годы. Достаток, как говорится, стоил ему здоровья, пришлось поэтому посадить себе в помощь, на переделку, портного в задней комнате, но с глажкой, когда работы набиралось невпроворот, он не справлялся, так что понадобилось еще нанимать гладильщика, и оттого хотя дела в лавке шли прилично, но могли бы идти и лучше.
Они могли бы идти гораздо лучше, если б гладильщик, Йосип Брузак, грузный, налитой пивом, потливый поляк, работавший в исподней рубахе и войлочных шлепанцах, в штанах, съезжающих с могучих бедер и набегающих гармошкой на щиколотки, не воспылал ярой неприязнью к портному, Эмилио Визо — или это произошло в обратном порядке, Маркус точно не знал, — сухому, тощему сицилийцу с куриной грудью, который, то ли в отместку, то ли еще почему, платил поляку неистребимой злобой. Из-за их стычек страдало дело.
Отчего они так враждовали, шипя и пыжась, точно драчливые петухи, и не стесняясь к тому же в выражениях, употребляя черные, неприличные слова, так что клиенты обижались, а у Маркуса от неловкости порой до дурноты мутилось в голове, было загадкой для торговца, который знал их невзгоды и видел, что по-человечески они во многом похожи. Брузак, который обитал в меблированной трущобе неподалеку от Ист-Ривер, за работой насасывался пивом и постоянно держал полдюжины бутылок в ржавой кастрюле со льдом. Маркус вначале возражал, и Йосип, неизменно уважительный к хозяину, убрав кастрюлю, стал исчезать с черного хода в пивную на углу, где пропускал свою кружку, теряя на этой процедуре такое количество драгоценного времени, что Маркусу оказалось выгоднее вернуть его назад к кастрюле. Ежедневно в обеденный перерыв йосип доставал из стола острый маленький нож и, отрезая толстыми кусками твердокопченую чесночную колбасу, поедал ее с пухлыми ломтями белого хлеба, запивая все это пивом, а напоследок — черным кофе, который он варил на одноконфорочной газовой плитке для портновского утюга. Иногда он готовил себе жидкую похлебку с капустой, которой прованивал насквозь все помещение, но вообще ни колбаса, ни капуста его не занимали и он ходил целыми днями понурый, озабоченный, покуда, обыкновенно на третьей неделе, почтальон не приносил ему письмо из-за океана. Когда приходили письма, он, случалось, разрывал их пополам нетерпеливыми пальцами; забыв о работе, он усаживался на стул без спинки и выуживал из того же ящика, где хранилась колбаса, треснувшие очки, цепляя их за уши при помощи веревочных петель, привязанных вместо сломанных дужек. Потом читал зажатые в кулаке листки дрянной бумаги, неразборчивые польские каракули, выведенные блекло-бурыми чернилами, — слово за словом, вслух, так что Маркус, который понимал по-польски, но предпочел бы не слышать, слышал. Уже на второй фразе у гладильщика искажалось лицо, и он плакал, размазывая слезы по щекам и подбородку, и это выглядело так, словно его опрыскали средством от мух. Под конец он разражался надрывными рыданиями — ужасная картина, — после чего часами ни на что не годился и утро шло насмарку.
Читать дальше