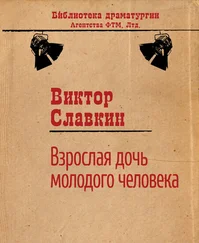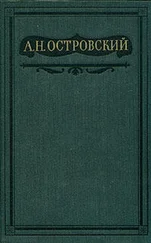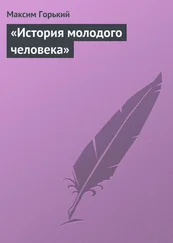— Здесь тебе будет лучше, чем на квартире в Монако, — сказал он Жюльену. — Я уезжаю на несколько дней в Штаты и потом вернусь. А ты пока отдыхай, обеды тебе будет готовить экономка, о парке и бассейне позаботится садовник. Не беспокойся ни о чем.
В дороге, верные своей привычке, они ни о чем не говорили. Прощаясь с Жюльеном, Эдди спросил:
— Скажи правду, как ты себя чувствуешь?
— Не очень-то!
— А Фобержеру ты об этом сказал?
— Нет.
— Софи знает, что ты здесь?
— Нет.
— О’кэй, я вернусь самое большее через неделю, а ты пока сиди и не дергайся. Когда вернусь, я все устрою. Поедем в Лондон к Уилкинсону, это кое-что другое, чем твой Фобержер. О’кэй?
— О’кэй.
Англичанин с размаху хлопнул Жюльена по спине и буркнул:
— Bull shit! [17] Английское ругательство.
Не переживай! До скорого.
И ушел. Цикады стрекотали так громко, что было едва слышно, как его шаги скрипят по гравию.
Жюльен устроился на вилле, пытаясь максимально щадить себя во всем, ведя неприхотливую и скромную жизнь. Поль, сиамский кот, поддерживал ему компанию, но через пару дней он исчез. Экономка, мадам Клеманс, готовила еду, а по утрам он смотрел, как работает садовник Жозеф. Проводя жизнь на кортах и в самолетах, он никогда не имел времени, да и не желал интересоваться неторопливым течением природных процессов.
С волнующей нежностью обнаруживал он иные ритмы жизни у красных гибискусов, олеандров, белых рододендронов, одуряюще пахнущей жимолости и фиолетовых клематисов. Поначалу он вознамерился плавать после обеда, думая, что это поможет колену хоть немного обрести утраченную гибкость. Но от затеи пришлось отказаться, так как после первого же купания начались острейшие головные боли, и он испугался, что может потерять сознание в воде и утонуть. Уже пять дней кряду он запирался после обеда в белой комнате, где все чаще и чаще его посещали галлюцинации. Он знал, что отныне разум его будет отключаться короткими интервалами и что, если не полагаться на мнимое чудо, которое мог сотворить Уилкинсон, он рано или поздно угаснет. В эти долгие знойные послеобеденные часы отыскивал он в своей памяти образ матери, но не находил ничего, кроме смутного лица, усеянного веснушками и обрамленного длинными белокурыми волосами. В течение стольких лет ему так хотелось стереть малейшую память о ней, что он почти добился этого. Большой спорт, в который он бросился со свирепой жадностью, граничащей с мазохизмом, со своей яростью и необходимостью полного самоотречения, буквально вывернул его наизнанку. С первыми успехами в нем проснулась гордость. Он поднимался к свету из глубин колодца. Он сам себя вылепил, сделал себя заново. У него больше не было ни отца, ни матери и ничего, кроме себя самого, кроме головокружения от своего ремесла и своей страсти, своего сердца, трепещущего в волнении и страхе, своей каторжной жажды успеха. Когда пришли деньги, он принял их холодно и распорядился расчетливо. А потом в эту жизнь бойца ворвалась Софи с ее щедрой и чувственной натурой, вкусом жить ради жизни. От нее он насыщался силой; обрел корни, семью: тещу-идиотку, папашу-фанфарона, правящего в округе Бордо, этакого самостийного гения, ворочающего делами с хвастливой веселостью гасконца. Через них он восстанавливал связь с миропорядком, обнаруживал то, чего никогда не знал: нормальную жизнь, приторное и покойное тепло так называемого домашнего очага.
Он цеплялся за все это, но все же своим себя не чувствовал. Он знал, что было сумасшествием сотворить себе заново мир или бежать от него прочь; и если когда-то он принадлежал к племени созидателей, то теперь уж навсегда оставался среди беглецов. А поэтому три года спустя после женитьбы, у него все еще не было детей. Он боялся своей наследственности. Софи соглашалась подождать, но чем дальше, тем все труднее. Она была создана для материнства и не боялась черных мыслей, она ощущала в себе достаточно равновесия для двоих, троих, тысячи…
Он уже чуть было не поддался, когда вдруг произошла эта авария. В полночь, на южном шоссе, в двадцати пяти километрах от Парижа, «ДС» — навстречу. Только и всего. Последний рефлекс в тысячную долю секунды позволил ему избежать смерти. И вот теперь, четыре месяца спустя, он оказался здесь, один. Кот Поль уже три дня как исчез. Он же пребывал на роскошной южной вилле, раздавленной августовским солнцем, лежал голый на постели в комнате с закрытыми ставнями, говорил по телефону со своей женой и чувствовал, как разум покидает его мучительно-жестокими рывками. Однако ясность еще оставалась. Даже слишком много, как казалось ему.
Читать дальше