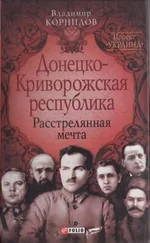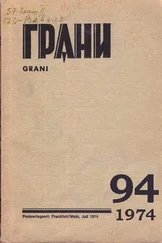— Иди ты…
— Нет, не говори, — расходился полупьяный Гришка. — А эта в порядке. У меня друг до войны на такой женился. И знаешь, чудно как…
Поборов дремоту, Новосельнов перешел на сентиментально-вспоминательный минор, который Федька и Курчев между собой называли «из золотого века» или «паршивого прошлого».
— Идем, значит, с приятелем, — покашливая и отсмаркиваясь, стал настраивать Новосельнов голос, все равно как гитару, — с другом моим по Невскому, как раз под выходной, в получку. Так, сами ничего, в галстучках, в чарльстонах. Я еще лысый не был, а приятель вообще «вейся чубчик кучерявый». Спортсмен. Ну, идем, ля-ля. Приняли немного. А Питер до войны совсем другой был. Тогда где чего — точно знали. Кому это — педерастов, те у Казанского собора прохаживались, а кто девочек ищет, те подальше, у «Авроры», а еще верней — у кинотеатра «Молодежный».
— И теперь там.
— Пробовал?
— Слышал. Другие рассказывали.
— Параша, — старчески скривился Гришка. — Теперь всё вперемежку. Уже не разберешь, где кто и которая какая. А до войны было строго, порядок. Подходим мы это, значит, к «Молодежному» и вдруг стоит девочка. Ну, точно твоя. И одета чистенько, но бедно. Штопаное, последнее. Носочки еще, помню, на ней были. А время такое — осень посредине. Стоит девушка и ожидает. Ну, мы к ней — ля-ля, мол, то да сё. Как вас, фройляйн, по имени. А она молчит. Приятель хвать ее повыше локтя. Не вырывается, только дрожит. Мордашка такая, что ну прямо сейчас реветь начнет.
— Чего стоишь здесь? — Это я ее спрашиваю. — Тут, — говорю, маленьким стоять запрещается. Тут, знаешь, чья стоянка?
— Знаю, — отвечает. Это первое было слово, какое от нее услышали. И слезки сразу у нее между ресничками заблестели, а ресницы, как у твоей Вальки, длиннющие, даже еще длинней.
— Да оставь ты Вальку, — рассердился Курчев. Ему не хотелось слушать эту бодягу, которая, — он знал, — если не сплошное вранье, то уж надерганная из разных чужих историй или даже книжек — сборная солянка, но перебивать человека перед окончательной разлукой было невежливо.
— К инженеру ревнуй, а я тут ни при чем, если похожи… — осклабился Гришка. — Я тебе точно говорю — женись. В отпуск ко мне в Питер приедешь. Жена как родных примет. Комнату предоставит. Не хочешь?.. Тогда я к тебе переберусь… Ну, так вот. «Знаю», — она так нам ответила. Понимаешь, девчоночке, ну, шестнадцать, не больше, а знает. Собой — свежачок такой. Грудки еле-еле под жакеткой намечаются. Ну, скажу тебе — мечта! Сколько лет прошло, а помню…
— Слюни подбери.
— А мне что? Я ее не трогал. Другу досталась. Он, понимаешь, раньше моего докумекал. «Ты, что, — удивился, — такая?» — «Угу», — кивает, а сама уже ревет по-серьезному.
— Брось ее, — говорю ему. — Припадочная… А она на меня кулачками:
— Идите отсюда. Гадкий вы, противный… — или чего-то вроде этого.
— Смотри, разглядела, — усмехнулся Борис. — Ну, и чего дальше?
— А квартира у тебя есть? — спрашивает приятель.
— Есть, — кивает.
Ну, и поехали они. А утром, напослезавтра, друг в мастерскую заявляется и у всех, по тридцатке, по червонцу, по трешке даже стреляет. «Женюсь», орет. Честной оказалась. Невинной то есть. Отца, понимаешь, взяли (как раз такое время было), мамаша померла — вот и одна осталась, и в первый раз вышла. И повезло ей, на хорошего человека напоролась. И ему фортануло. Знаешь, какая верная оказалась…
— И сейчас еще живут, мед попивают?
— В блокаду погибли, — не сморгнул Гришка. — И ты женись. Думаешь, философия или история тебя прокормят? Ну, а прокормят, так такого овна за это жрать заставят, что сразу гастрит заимеешь. Нервное это дело. Сегодня одно говори, завтра — другое. Нос держи по ветру и, чуть насморк схватишь, сразу готовься с вещами на выход. Десять лет без права переписки или еще «вышку» тебе сделают. Это страшный мир, Борис Кузьмич, дорогой ты мой, снизил до шепота голос Гришка.
— Почем знаешь?
— А что я, не в Ленинграде жил? В Ленинграде, знаешь, сколько раз людей сажали? Этих кампаний было — пальцев на руках и ногах не хватит. Дворян, немцев, чухонцев, профессоров, потом тех, которые с золотишком, потом кировцев, ну и, как везде — троцкистов, шпионов. И еще этих, после войны, писателей. А уж головку всю — подчистую…
— Какую головку?
— Обыкновенную. Смольный весь. Ты же ни хрена не слышишь, читаешь одни журналы свои, а в них того не пишут. Ну, сам пойми, чего написать можно? Только чужое жеваное-пережеваное еще раз пожевать. Правды ты и в глаза не видел, а увидишь — все равно рассказать ее не дадут. А теперь, как рябой подох, так вообще неясно, кого хвалить, кого не хвалить. При нем хоть направление было. Хвали-перехваливай и только гляди, чтоб другой больше тебя не перехвалил и на тебя же не наклепал. А теперь вот, году еще нет, как в ящик дал, а уже поклевывать начали.
Читать дальше