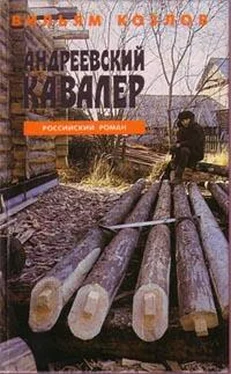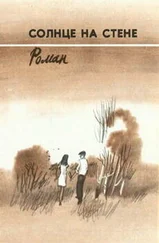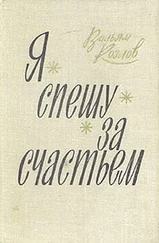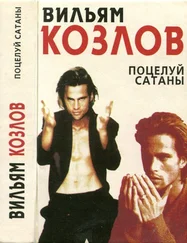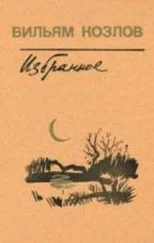— Ты мне ночами там снилась, Любаша! — бормотал он, тиская ее.
— Ты что ж там и бабы живой не видел? — наконец выговорила она.
— Эх, Люба! И надо было тебе замуж выходить!
— Неужто ждать тебя, непутевого? Кто пошел гулять по тюрьмам, тот к семейной жизни не сгодится.
— Ты меня еще не знаешь…
— Была Маша, да теперь не ваша… Пусти! От тебя пахнет тюрьмой!
— Вот и ты, Люба, уже попрекнула, — сдерживая гнев, пробормотал он. — От тюрьмы и сумы не отказывайся… Любой может туда загреметь! Не поверишь, каких я там людей видел!
Он сгреб ее в охапку, поднял на руки и шагнул в глухую черноту сеней.
— Да пусти же, — попросила она, — Дверей-то впотьмах не найдешь.
Закрыла дверь на засов, нащупала его руку, повела за собой. Он, видно, задел локтем умывальник, и по полу покатилась металлическая крышка.
— Октябрину разбудишь! — шикнула на него Люба.
— Кого? — удивился он.
— Колька мой так по-новому назвал нашу дочку — пояснила она. — Мать моя зовет ее Катей.
— Много, гляжу, тут у вас перемен!
— Сыми башмаки-то, торопыга… И эту вонючую фуфайку! Может, молочка попьешь?
— Ты сама сметана! — бормотал он, путаясь со шнурками. Быстрым движением выхватил финку и перерезал узел. Отброшенный башмак глухо стукнулся о табуретку.
— Леня, — зашептала она, — не лезь на рожон, не поруши мне семью! Колька хоть и тюфяк, а за ним как за каменной стеной, да и дочка у нас…
— Разве он, фраер, так тебя будет любить?
Закрывая на рассвете за ним дверь, Люба Добычина сказала:
— Выпарь из себя в бане тюремный запах.
— Тюрьма, она ведь, Любаша, и в душу въелась, — вздохнул он. — А ты, Маруся, упавшего не считай за пропавшего. Из тюрьмы-то я давно уже вышел.
— Какая же я Маруся?
— В колонии у нас любимых женщин Марухами называют, — криво усмехнулся он.
— Ты вот ночью пришел, а утром возьми да как следует оглядись, Леня, — чего доброго и найдешь свою суженую, — сказала она. — Колька-то мой со дня на день с лесозаготовок вернется.
— А ты все ж дверь на ночь не запирай. — Он чмокнул ее в губы и, не оглядываясь, зашагал по темной улице вдоль ряда слепых домов.
Багроволицый, разомлевший Андрей Иванович сидит во главе стола, через плечо перекинуто льняное полотенце с красными петухами по концам. Ведерный медный самовар тоненько сипит, в окошечках поддувала алеют угольки, фарфоровый чайник красуется на конфорке, в потемневшей хрустальной сахарнице — наколотый сахар, в вазе — брусничное варенье. В окно видны на лужайке с пожухлой травой четыре красавицы сосны, под ними желтеют шишки, сухие иголки. Ветер раскачивает пышные кроны, слышен тягучий скрип. Андрей Иванович любит, сидя за самоваром у окна, глядеть на сосны и мелькающие меж ними вагоны проходящих без остановки товарняков. Когда проходит поезд, конфорка на пузатом, с медалями самоваре мелодично позвякивает, из подвала доносится тяжелый приглушенный гул, крашеные половицы под ногами чуть подрагивают.
Хозяин только что вернулся из бани и теперь гоняет чаи. Выпил он и традиционную стопку, и проворная Ефимья Андреевна тут же убрала в буфет бутылку: в стопку Андрея Ивановича вмещался почти стакан. Абросимов то и дело концом полотенца стирает пот с лица. После бани он может запросто выпить десять вместительных кружек чая.
За столом сидят Тоня и Алена. Ефимье Андреевне долго не сидится на месте, она встает с табуретки и спешит к плите, на которой варится в чугуне картошка, шипит на сковороде сало. Не забывает она поменять мужу полотенце, подать круглое домашнее печенье в деревянной чашке, вытереть стол, убрать тарелки. Чай в ее чашке давно остыл. Сестры сидят рядом. Смешливая Алена пытается расшевелить задумчивую Тоню, рассказывает, как у них в педучилище один студент заснул на занятиях, а когда его преподаватель разбудил, вскочил с места и залпом прочел басню Крылова «Волк и ягненок»: «У сильного всегда бессильный виноват…» С тех пор студента и прозвали ягненком.
Тоня слушает сестру, отхлебывает чай из блюдца, улыбается, а глаза у нее грустные. На голове косынка в синий горошек. Всякий раз, когда что-либо стукнет во дворе или сенях, она вздрагивает и смотрит на дверь.
— Еще кружечку, — пыхтит Андрей Иванович, вытирая промокшим полотенцем пот с красного лица. — Мать, вроде заварка стала жидкой!
Ефимья Андреевна молча забирает чайник и выплескивает остатки в помойное ведро. Большой рукой Абросимов поглаживает начавшую заметно седеть широкую бороду, зорко взглядывает на Тоню, усмехается в усы:
Читать дальше