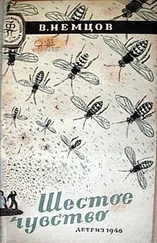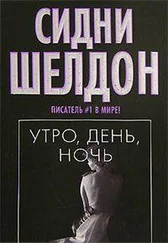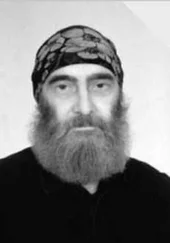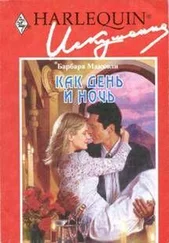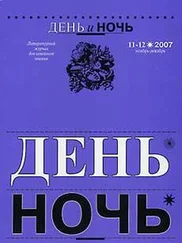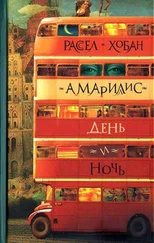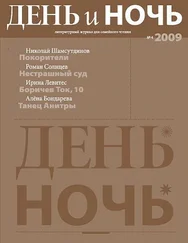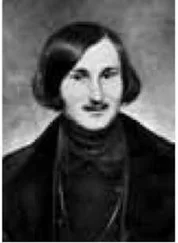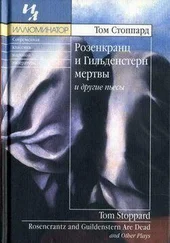Помню, и у отца был такой старинный, «николаевский» топор. Он им очень дорожил. А когда однажды нерадивый сосед, попросив этот топор поработать, зачем-то ударил обухом по чугунной кобылине, да так, что в основании проуха появилась сквозная трещина, отец чуть не заболел с горя. Слава Богу, подсказали добрые люди, что в мастерских районной РТС появилась какая-то особо прочная сварка. Отец поехал в райцентр и заварил-таки трещину, а затем ещё сровнял, сточил шов на наждаке. «Николаевский» топор был спасён. Он и запомнился мне таким — с поперечным шрамом от сварного шва, чем-то напоминающим тот, что я ношу на коленке.
Весьма уважаем среди мастаков по дереву и столярный топор. Его ещё зовут мастеровым. Этот заметно поменьше размером. Если плотницким, довольно тяжёлым, обычно работают двумя руками, особенно когда имеют дело с бревном или брусом, скажем, рубят углы дома «в лапу» или «в крюк», то мастеровой топорец заведомо одноручный и относительно лёгкий. Лопасть у него тоже тонка, и заточка лезвия отлога, но того острого носка впереди уже нет. У него, скорее, будет длинная пяточка. Главное назначение мастерового топора — тесать, и здесь в ходу именно пяточка, тонкая и острая, как бритва.
Но, пожалуй, наиболее распространённый топор — дровяной, или дровосечный. Приходилось мне слышать и ещё одно его название — мужичий. Это как бы универсальный топор, что заложено даже в его форме. Он тоже сравнительно небольшой, но потолще в лопасти и в обухе и, само собой, потяжелее, чем, скажем, мастеровой. Да и сточка лезвия у него покруче будет. Одним словом, средний топор. При случае им можно и поплотничать, и постолярничать, а то и дровец наколоть, если чурки не слишком сучковаты и громоздки. Но всё же в прежние времена, когда за дровами ездили не на тракторах с бензопилой, а на лошадке с ручной пилой да с топором, в роли последнего как раз и выступал мужичий, дровосечный.
Это о нём писал Николай Алексеевич Некрасов:
«В лесу раздавался топор дровосека».
А, кстати, вам не приходилось задумываться над странностью, даже как бы формальной безграмотностью этой фразы, знакомой с детства? Ведь если сказать, что в лугах раздавалась литовка косаря или на крыше раздавался молоток кровельщика, то это прозвучит нелепо. Почему же топору позволительны такие вольности с русской грамматикой? А всё потому, что он царь среди орудий и инструментов. Всё объясняется его известностью и нашей привычкой к нему. Для нас уже и звук топора стал настолько привычен, что слился с самим топором, и нет необходимости каждый раз подчёркивать, каков и чей это звук. Потому мы запросто и говорим «раздавался топор», тогда как, упоминая все другие инструменты, вынуждены уточнять: раздавались звон косы, стук молотка, визг пилы.
Однако просто «раздаваться» и топор не всякий может. Тут поэт не зря пояснил — «дровосека». Он обозначил этим, что речь идёт именно о дровосечном, мужичьем топоре, широко известном и к тому же звучащем в самой привычной среде — в гулком лесу. Ибо невозможно сказать, к примеру, что в селе раздавался колун дровокола.
Вот мы и подошли ещё к одному топору — к колуну. Этот стоит особняком среди своих собратьев. Если у всех топоров щёки лопасти впалые, то у колуна ровные или даже выпуклые, да и обух у него заметно толще и шире. У колуна особая служба — колоть дрова, расщеплять круглые чурбаки на поленья. Это даже не топор, а скорее, железный клин на длинном черенке-топорище. Отсюда и толщина его полотна. Он часто бывает тупым (не зря тупицу порой «колуном» обзывают), даже зазубренным, но дровокола это мало смущает. Главное — вбить клин-колун в торец чурки так, чтоб она треснула вдоль волокон и разлетелась на поленья, стала швырковыми дровами.
Из специальных топоров ещё известен мясничий. Он самый огромный, самый широкий и тяжёлый. Прямо секира какая-то, а не топор. Признаться, я даже с некоторым страхом смотрю иной раз, как орудует им мясник на базаре. Невольно вспоминаются палачи времён Ивана Грозного и купца Калашникова. «С большим топором навострённым… палач весело похаживает». Сказочные размеры мясничьего топора объяснять, видимо, нет необходимости. Чтобы одним ударом отвалить от туши стегно, оковалок или огузок, топор должен быть и широким, и веским, и острым.
Есть ещё целый ряд топоров, топориков и топорцов особого назначения, которые известны ныне разве что среди специалистов, да и то круг тех специалистов становится всё уже. Например, бочары пользуются небольшим сподручным топориком, который так и называется — бочарный. У сапожников раньше был топорец ещё меньших размеров, они им били баклушки, то есть кололи отпиленные от чурки колёса на ленточки-щепы, из которых нарезают деревянные шпильки. У моего отца Иллариона был двоюродный брат Лавриин, превосходный сапожник, живший в городе Минусинске. Когда он за семьдесят вёрст приезжал к нам в Таскино, чтобы «обуть деревню», то привозил с собой и этот топорец, носивший соответственное название — баклушный. Иногда доверял и мне заветным инструментом «бить баклуши», приучая, вопреки переносному смыслу этого выражения, не к лодырничеству, а к труду.
Читать дальше
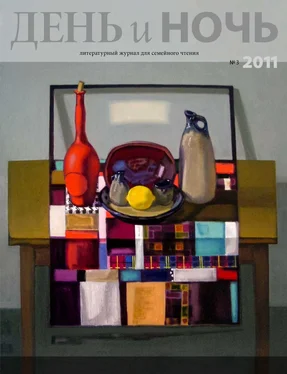
![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)