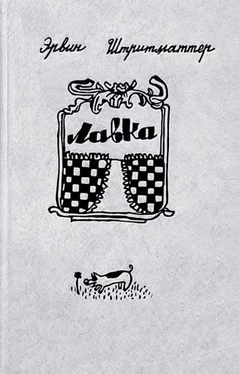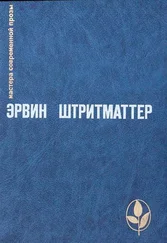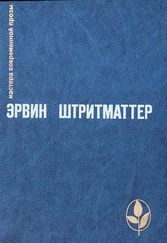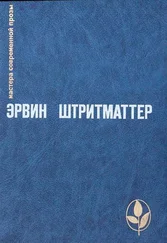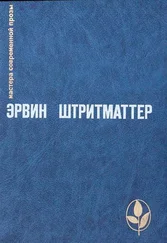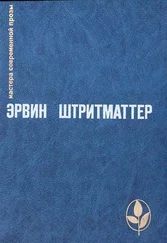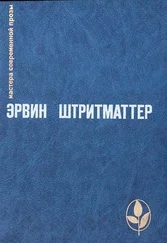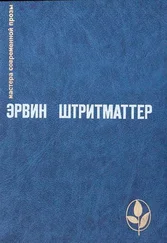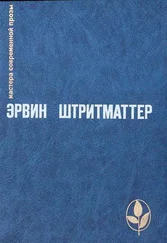Мой отец узнает, что его уличили. Он выгораживает Ханку, она в этом не виновата, она вообще ни в чем не виновата.
— Стал быть, это ты ее обольстил! — произносит мать с восклицательным знаком на конце и с некоторой толикой удовлетворения, я бы сказал, чисто литературного удовлетворения. Вот и у нас в доме произошло такое, что обычно происходит лишь в романах: супруг моей матери прибег к искусству обольщения.
Но жизнь по литературным образцам скоро обрывается, когда людей подпирает то, что они называют действительностью. Вот и в случае с моей матерью: чуток погодя она уже не испытывает готовности отречься от своего супруга. Она явно вознамерилась сохранить его для пробы еще на какое-то время, но предварительно надо до конца разыграть трагедию. В углу кухни мать и Ханка исполняют сцену ссоры, причем мать для этой цели пользуется возвышенным языком хедвиговских романов:
— Ужели ты не могла известить, когда он начал приступать к тебе с любовными авансами?
— Ничего он к мене не приступал.
— Но как же все произошло, отвечай, коль ты сохранила хоть остатки чести.
— Он мене просто целовал во всякие места.
— Тогда ты должна была известить, что он пристает к тебе с домогательствам!
— Больно надо, чтоб вы опять померли!
— Неужто ты не знаешь, что я немного погодя снова оживаю, нет, тебе, видно, по вкусу пришлись ласки моего супруга. Вот уж поистине я вскормивши змею у себя на груди.
С этого дня мать, решившая еще некоторое время попользоваться моим отцом, начинает работать над его оправданием и в кружке любительниц ската говорит таковые слова: «Представьте себе, фрау Румпош, его соблазнили, мужчины во хмелю, они, знаете ли, такие податливые».
Мы, дети, слоняемся об эту пору по всему дому, как никому не нужные существа. Судя по всему, ни родители, ни дед с бабкой больше не испытывают к нам теплых чувств. Напротив, когда позарез нужно устроить скандал, мы только мешаем. Единственный человек, кто нами занимается, — это Ханка. В эту пору она с особой сердечностью относится к нам, мне снова достаются свежие, как вишня, поцелуи Ханки.
Моя мать пишет меж тем письма. Одно — моей бабушке в Серокамниц, Американке, стало быть, другое — Ханкиной матери, третье — высокочтимому суду, причем третье несколько дней лежит на столе, затем переселяется на сервант и, судя по всему, не способно двинуться дальше. А может, оно предназначено, чтобы сохранять в моем отце страх на будущее?
Человек въезжает, человек выезжает, переезжает оттуда, где он не был виден, туда, где он виден, въезжает в квартиру, выезжает из квартиры, переезжает оттуда, где он виден, туда, где он не виден. Ханка уезжает из Босдома. По доброй воле? Кто определяет поступки человека? Люди, его окружающие? Он сам? Поступки, которые он совершает? Поступки, которые он совершал в предшествующей жизни? Ханка уезжает из Босдома. Ее перина уложена в фургон. Никто из взрослых не изъявляет готовности помочь ей перенести дорожную корзину из комнаты в фургон. Отец связан по рукам и ногам, и Ханка кличет на подмогу Ленигкова Юрко. Молча сносят они корзину вниз по лестнице и задвигают в фургон — как на катафалк. На щеках у моего отца ходят желваки. Ревность. Ленигков Юрко, убийца вяхиря, шастает у нас по дому, как у себя.
Дедушка, презрев воскресенье, возится в мастерской и ехидно поглядывает на погрузку. Бабусенька-полторусенька сидит на оголовке колодца и лущит зеленую фасоль. Она не смотрит по сторонам, ничего не видит и видит все. Она выглядывает из-под своих бровей, словно из-под замшелой крыши. Она тревожится за мою мать.
Мать обставляет изгнание Ханки как семейную прогулку. Она берет с собой мою сестру и меня. Мы оба соответственно принаряжены. И опять приходят на память приемы высокой политики, ибо народу объявлено: мы едем в Серокамниц проведать бабушку. Дипломатия здесь тоже имеет место: мы нужны матери для того, чтоб было с кем вести непринужденную беседу.
— Гля-кось, как высоко лётает жавронок! — замечает она по дороге, а в соседней деревне нам предлагают подивиться на усыпанный ягодами вишенник:
— Господи, сколько можно бы пирогов напечь с вишням!
Уже за пределами соседней деревни моя наивная сестра спрашивает:
— А куда это мы собрались со всем кроватям и корзинам?
Мать молчит. Мне же, когда мы прощались во дворе, дедушка успел шепнуть: «Пора этой свинье убираться восвояси. Она с вашим Генрихом свалялась в закрому!» Первый раз дедушка назвал в разговоре со мной моего собственного отца «вашим Генрихом».
Читать дальше