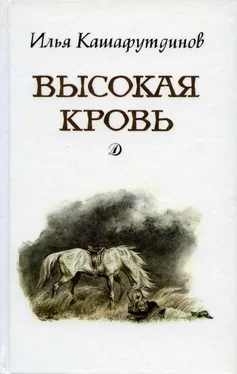Грахов оглянулся на тучу, стал привязывать Фаворита к своей стороне. Леха заметил, остановил его:
— Слева привязывай, слева. Я же его в кювет могу столкнуть.
И вот уже в который раз тронулись в путь. Через мост, к перевалу, прямо по солнцу. Оно уже не слепило, не грело, мигнув последним красным светом, утонуло. Дорога в гору шла ровная, укатанная, и серые тени ложились на нее, густели. Ударил сзади, приналег первый порыв ветра. Со всего поля легким дымом поднялась пыль, закружилась, соединилась в танцующих расшалившихся веретенах.
Свистел в кабине сквозняк. Мрачнея, Леха поехал быстрее, надвигался на стекло край перевала.
— Посмотри, бежит? — спросил Грахов.
— Бежит, бедняжка, — вздохнул Леха. — Раньше с ним сами заводчики возились. Привозили, увозили сами. Фургон у них — люкс. Мне бы такой. Наш-то утиль.
— Нас бы не послали. Жокей слег.
— Знаю, видел. Доходяга. В седле, правда, как гвоздь, сидит. В чем душа только держится, не пойму. Жил бы, как все. Зарабатывает, что ли, много, жалко бросить?
— Не в этом дело. Не может иначе.
— Я вот тоже без руля не могу. Жить-то надо… фу, черт, мерещится, что ли?
Леха высунулся в окно, притормозил, досадливо глянул на Грахова.
— Вроде скачет кто-то…
— Конюх, — догадался Грахов.
— Вроде нашего Молчанова. Значит, устроит концерт.
— Кавалерист бывший.
— Рубаки они все. Ты давай поласковей с ним.
— Дипломат, — хмыкнув, Грахов поправил галстук, приосанился.
Промчался мимо всадник. Грахов узнал гнедую кобылу, прямую плоскую спину Макарыча. Толкнул коленом Леху, машина остановилась.
— Вы нас извините! — крикнул Грахов, высовываясь из кабины. — Боялись, дождь внизу застанет. Цепей у нас нет.
Макарыч слушал, держась и гарцуя впереди. Потом сердито, резко махнул хлыстом в сторону еще светлого розового горизонта, шагом повел гнедую.
Ветер усилился, хлестко ударил по кабине, и снова сорвалась, теперь уже пепельно-плотная, пыльная завеса. И на мгновение будто застыла, озаренная отсветом молнии.
Догнали конюха, поравнялись. Не поворачивая застывшего темного лица, он ехал, обдумывая что-то, и сейчас его молчание для Грахова было в тягость. Ветер яростно, урывками кидался на выцветшую рубаху конюха, мял кепку.
— Мы боялись… — снова крикнул Грахов. — Потому что…
— Я попону ему дарю, так и скажите, если спросят, откуда, — отозвался конюх. — От Топорка еще, от того еще… — оборвал себя, оглянулся. — А вы… на веревочке.
Оглянулся. Катилась, черно заливала землю, блестела зарницами гроза.
— Сворачивай! — крикнул Макарыч. — Там ямы силосные. Посадим коня…
Безмолвно расстались, молча поехали дальше, в душную, гудящую черноту. Макарыч не сразу отстал, с полверсты провожал Фаворита. То слева, то справа осматривал его. Фаворит стоял надежно на старой мешковине, обложенной прошлогодней соломой. В дареной попоне, которая вздувалась от ветра, заботливо похлопывала по спине, подзадоривала.
Небо будто раскололось, тяжко и сыро вздохнула туча; осветилась широко и раздольно подставила себя под дождь земля. Не дразня первыми одинокими каплями, зашумело, потекло разом.
Согнувшись под тяжестью струи, задымился Макарыч, набежавшей следом упругой волной накрыло его.
Сразу окатило и Фаворита. Загромыхал, наполнился мелкими брызгами, паром, свежестью кузов. Смачивалась, опадала солома, попона, затвердев, тесно обтянула Фавориту бока.
Дождь лил долго и щедро. Сначала теплая, приятная влага сочилась по шее, по груди и ногам, а под конец Фаворита охватило холодное, мокрое оцепенение. Его уже не трясло, не дергало, самосвал мягко скользил и проваливался.
Еще клубилось небо, мертвенно-бледно вспыхивала водяная пыль, косо летящая по ветру; гром ударял в землю, раскатисто обходил далекие поля.
Фаворит давно не попадал в грозу, сейчас, не пугаясь, слушал, впитывал ее загадочную, обворожительную мощь. И ему передалось волнение неба, расшевелило влажно занемевшее тело, кровь, разыгравшись, горячо дошла до копыт. Тесно стало в кузове, в прелой соломе, и Фаворита, налившегося упругой силой, потянуло на простор, на напитанную дождем траву.
Небо не шумело, не лило больше. Чистый, мягкий звон сошел сверху, радостно, благодарно отозвалась земля — всеми голосами, обновленным, умытым своим ликом.
Как никогда, сильно, страстно любил эту родную землю Фаворит. Впрочем, лето он любил всегда. Еще зимой возникало в нем смутное томление — он ждал весну, которая сменится красным летом. Вот с такими быстрыми, окатными дождями, до звонкости ясными рассветами. Однако не сладким пышным пирогом оно снилось ему. Он знал его, как работу — от тренинга к тренингу, от скачки до скачки, и только между ними кажущиеся мгновением свидания с лесами, ручьями, травой. И все-таки не жаловался и ждал лета, счастливо следя за каждой весточкой о нем — вот прострелились листья, пролетели первые стаи птиц, ровно зажурчал усмирившийся после паводка ручей.
Читать дальше