Его женушка — в трауре, словно она в предвидении этой ночи привезла в своих чемоданах новехонькое черное платье, — поставила зажженные свечи вокруг растрепанной головы доньи Мины, рассыпала несколько ранних бледных фиалок в изножье кровати; прикрыв лицо руками, она ждала нас, стоя на коленях спиной ко входу, на белом дешевом покрывале, вероятно, принесенном из комнаты прислуги.
Они продолжали жить в этом доме и, как говорил Ланса в «Берне», впиваясь глазами в лицо Гиньясу — в те дни еще более хитрое, профессионально лукавое, — никто не имеет права их выгнать, пока не вскроют завещание и не будет доказано, что существует кто-то, имеющий право их выгнать, или же что они могут продать дом и уехать. Гиньясу усмехался, говорил, что он прав.
— Спешить незачем. Я как душеприказчик могу выждать три месяца, прежде чем отнести завещание в суд. Разве что появится какой-нибудь родственник с законными претензиями. А пока они живут в доме — они ведь из людей той редкостной породы, которым везде хорошо, которые своим присутствием красят любое место и придают ему смысл. В этом все согласны. Я видел, как они выезжают за покупками каждую неделю, как всегда, и даже сумел выяснить, откуда берут средства. Но я с ними не заговаривал и не вижу причины торопиться. Возможно, что они взялись превратить большой зал в Лас-Касуаринас в музей для увековечения памяти доньи Мины. Полагаю, там нашлось достаточно одежды, шляп, зонтов и обуви, чтобы иллюстрировать эту героическую жизнь со времен Парагвайской войны [28] Парагвайская война (1864–1870) — война Бразилии, Аргентины и Уругвая против Парагвая.
до наших дней. И возможно, они нашли пачки писем, дагерротипы и банты, резной пенал из слоновой кости и ампулы со стимулирующим средством. С помощью таких экспонатов, если делать это умеючи, им будет нетрудно представить любому посетителю музея выдающуюся личность доньи Мины к вящей гордости всех нас — ведь наша скудная история дала нам одного-единственного героя, Браузена Основателя. Ничто нас не торопит.
(Но я подозревал, что его торопило подленькое желание, надежда на то, что юноша с розой опять посетит его контору с просьбой вскрыть завещание, выяснить вопрос о наследстве. Он ждал этого, чтобы расквитаться за непонятные чары, которыми юноша покорил его в то утро, когда пришел за советом и уплатил ему пятьдесят песо ни за что.)
— Ничто нас не торопит, — продолжал Гиньясу, — и на сегодняшний день, по-видимому, их тоже ничто не торопит. Ведь для сантамарианцев молчаливое проклятие, полвека назад изгнавшее из нашего коллективного бесчестья личное бесчестье доньи Мины, утратило после ее смерти и следствия свои, и причину. С той поры наиболее благоразумные из нас, землевладельцы и спесивые коммерсанты, даже потомки первых иммигрантов, полюбили эту парочку без оглядки, от всей души. Им предлагают теперь и кров, и неограниченный кредит. Конечно, имея в виду завещание, — делают осторожные или смелые авансы, выказывают уважение, осыпают подарками, заключая пари в пользу этой пары. Но, главное, настаиваю, делается все это с любовью. А они-то, танцоры эти, Рыцарь Розы и беременная Дева из Лилипутии, показали, что способны держаться на уровне новой ситуации, на высоком уровне половодья нежности, снисходительности и обожания, затопившего город, чтобы привлечь их сердца. Они покупают все, что им необходимо для питания и для счастья, покупают белую шерсть для ребенка, специальные галеты для собаки. Благодарят за приглашения, но отказываются принять, так как еще носят траур. Представляю себе их вечером в большом зале, где не для кого танцевать — как они сидят возле камина, окруженные беспорядочно разбросанными первыми экспонатами музея. Ей-ей, чтобы их послушать, я с удовольствием вернул бы этому парню пятьдесят песо своего гонорара да приложил бы еще столько же. За то, чтобы их послушать, узнать, кто они, чтобы узнать, кто мы и какими им представляемся.
О завещании, об изменениях, продиктованных старухой Феррагуту, Гиньясу не проронил ни слова, пока сам не пожелал это сделать. Возможно, он устал ждать визита юноши, который этим выдал бы себя и дал Гиньясу право его осудить.
А пожелал Гиньясу это сделать в один жаркий осенний полдень. Позавтракал с нами, положив на подоконник окна в «Берне» коричневый портфель, купленный им еще до того, как он получил звание, и все еще новехонький, словно изготовленный из шкуры молодого, еще живого бычка, — ни следа тяжб, судейских коридоров, побывавших в нем мерзостей. Накрыл портфель шляпой и сказал, что несет завещание для передачи его в суд.
Читать дальше
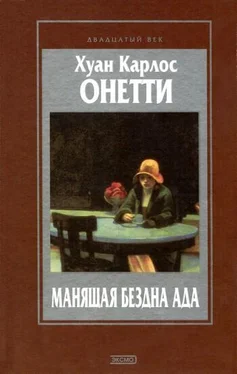

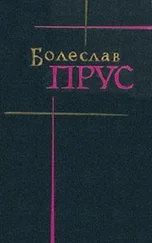
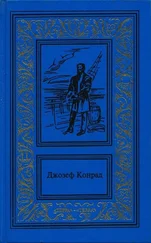


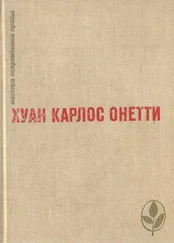
![Нора Адамян - Девушка из министерства [Повести, рассказы]](/books/187924/nora-adamyan-devushka-iz-ministerstva-povesti-rass-thumb.webp)




