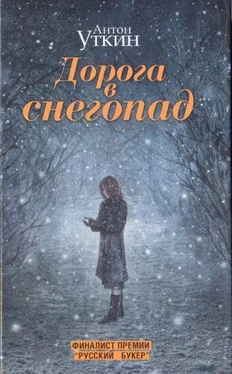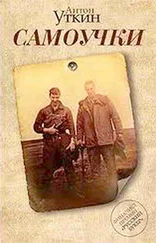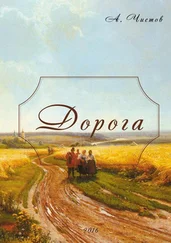Это потом я превращусь в человека, который смотрит на меня с улицы, стоит на холодной улице и смотрит в мое окно. Но пока я такой, какой есть. Возможно, дома наши со временем мне тоже покажутся серыми, невзрачными, а лица людей недружелюбными. Придет время, и я осознаю, что положен мне предел на этой земле. Я перестану смеяться милым нелепостям, а стану зло остроумить. А потом один за другим я предам свои идеалы. К нам ведь тоже проявляют снисходительность — обычно никто не требует всего и сразу. Буду выносить их по одному к мусорным бакам, но в контейнер не опущу, а положу рядом — вдруг кому сгодятся, как вот эти книги, которые забрал зачем-то доктор биологии. Я полюблю, но женюсь на другой. Дам слово, но не сдержу его. Я стану клятвопреступником. И если воспоминание о том снеговике, нанесенном гуашью на оконное стекло накануне нового 2008 года, не оставит меня окончательно, мне придется туго в мире времени. Изо всех сил я буду стремиться в прошлое и, наверное, сопьюсь от отчаяния, ибо прошлое недостижимо. И никого не окажется рядом, кто подскажет мне не слишком мудреную вещь: чтобы снова встретить его, это прошлое, надо идти не назад, а вперед».
Алексей сосредоточенно смотрел вглубь комнаты, но тюль, прикрывавший окно, не представлял никаких картин, да и улыбающийся снеговичок занимал добрых две трети стекла, надежно прикрывая комнату от нескромных взглядов. И Алексей, невольно отвечая на эту милую улыбку, любуясь красотой души, позволившей создать ее движением кисти, вдруг подумал с возмущением, что жизнь его кто-то хочет забрать от него, такие вот Андреи Николаевичи и их холопы, что он и сам невольно потакает этому странному явлению, а ведь она была его: жил он ее тридцать восемь лет то осмысленно, то страстно, то кое-как, то и впрямь подвижнически, хотя, может быть, и не имея тех яростно-неумолимых убеждений, столь часто приводивших его предшественников-ученых в склизкие подземелья разных родов инквизиции, но однако ж она была именно его жизнью, и отличительной ее способностью была уже безоговорочная сердечная возможность отличать добро от зла; его Господь поставил на эту землю в это самое время, и уж, наверное, имел относительно ее, этой жизни, какой-то свой замысел. И неужели его, Алексея Фроянова, доля была печальнее, суровее долей тех, кто ходили цепями под пулеметы в Курляндии, когда все остальные уже праздновали победу, или тех, кто, проиграв все, кроме самих себя, отплывал от крымских причалов, кто месил соловецкое крошево, чтобы человеческая душа не чадила, не исходила черным дымом отчаяния, неужели, словом, была горше судеб всех тех, кто, теряя все, имел мужество продолжать жить, шаг за шагом двигаясь к предначертанной им цели, не сомневаясь, что цель эта блага?
И ожесточение на безликих как будто существ, желавших сбить его с толку, овладело им, и он почувствовал в глубине себя спокойное шевеление разумных сил, которые готовы были противостоять этому.
* * *
Алексей зашел в квартиру. Дверь в комнату Татьяны Владимировны была притворена. Наверное, она прилегла, потому что оттуда не доносились звуки телевизора. Алексей остановился напротив двери и несколько секунд стоял неподвижно. «Мамочка моя милая», — растроганно подумал он. И так же мысленно сказал через дверь: «Мама, я остаюсь. Я остаюсь. Скоро я вернусь».
В своей комнате он расстелил газету поближе к батарее и стал выкладывать на нее спасенные тома: несколько советских романов, об авторах которых Алексей никогда и не слышал, несколько журналов «Наука и жизнь», пособие по русскому языку Розенталя и, наконец, тяжелый том Ибсена в плотном сером переплете, с оттиснутым профилем драматурга. Книга была настолько качественной, что выбросить такую выглядело каким-то гениальным кощунством.
Он открыл ее наугад, выбрал левую страницу, отсчитал было восьмую строку снизу, но глаза его сами собой остановились на словах, которыми император Юлиан заклинал враждебное ему время: «О прекрасный мир, — прочел Алексей, — обитель света и радости: чем ты был, тем ты и станешь вновь».
Стараясь не наступить на волшебных птиц дерева Ним, он подошел к окну, зажег сигарету и с высоты четвертого этажа смотрел на улицу. Из-за березового перелеска доносился гул бессонной, постоянно фонящей Рублевской трассы. На дальних зашоссейных шестнадцатиэтажных домах светлела какая-то реклама — для тех, чей поворот лежал на Рублево-Успенское шоссе. В роще мелькали языки костра — это бездомные коротали ночь на том самом месте, где когда-то осенью 41-го были вырыты землянки последней линии обороны перед въездом в город. Окна беспорядочно заплетали спутанные сети ветвей ближних кленов и лип. Пушистая ночь облегала и рощу, и деревья палисадников, наполняя комнату уютным светом зимнего лета.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу