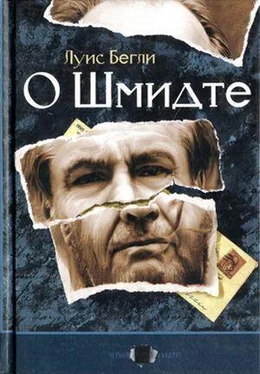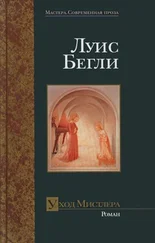Хотя договор ипотеки на судно, который в те дни готовил Шмидт, имея под рукой только одного молодого, первый год работающего сотрудника — фирма, как всегда, завалена заказами, а половина штата в отпусках и работать некому, — нужно было закончить к концу месяца, Шмидт в тот же день повез Мэри обратно в Бриджхэмптон. Предлагать ей подождать до пятницы было бесполезно: она уже рассказала ему, каким встревоженным голоском говорила с ней по телефону маленькая Шарлотта, сообщила, что забыла захватить с собой рукопись, а миссис Дурбан, по ее подозрениям, пасется в шкафчике с напитками. Отправить Мэри одну тоже было нельзя — заметив, каким страданием исказилось ее лицо, когда он спросил, поедет ли она со станции на его машине или лучше заказать такси, Шмидт тут же осекся. Конечно, он тоже сядет с ней в поезд и проведет ночь в Бриджхэмптоне. Конечно, ему хочется повидать Шарлотту. Глупо, что он сразу не подумал про утренний поезд — если сесть на утренний, он как раз успеет на встречу в банке.
Мэри поблагодарила его и добавила: Удобно, правда? Теперь ты можешь оправдываться перед партнерами и друзьями не только переутомлением. Теперь у тебя еще и жена, больная на голову. Все тебе будут сочувствовать.
Этот выпад удивил Шмидта — прежде в их разговорах не было ничего подобного, — и он не мог понять, чем вызвал такую злобу. Может, Мэри двинулась серьезнее, чем показалось доктору? Шмидт решил, что это был один из тех моментов, когда обжигающе горькая желчь внезапно поднимается из желудка и выплескивается в рот. При депрессии случается потеря самоконтроля. Интересно, какие еще тайные мысли вынашивает его жена?
После того, как Шарлотта пожелала родителям доброй ночи, Мэри тоже отправилась наверх, и пока она готовилась ко сну, Шмидт сделал ей бутерброд с сыром и налил тарелку томатного супу. Когда она поела, он подал ей выписанное врачом снотворное. Оно подействовало почти сразу. На спине, с открытым ртом, Мэри спала и храпела. Так храпел отец Шмидта: всегда, где бы и в какой бы позе ни уснул, и каждую ночь, сколько помнил Шмидт. В их доме на Гроув-стрит был слышен каждый скрип половицы, каждый кашель. В своей комнате, отделенной узким коридором с красной ковровой дорожкой от родительской спальни, Шмидт, представляя, как покорная и всем недовольная мать ежится на краешке черной кровати, слушал этот звук, он изучил его. Звук начинался как едва слышное, почти приятное жужжание, вроде моторчика авиамоделиста или очумелой мухи, такой шум никому не досаждает, ведь он прекратится, как только у моторчика кончится завод. Но нет, звук набирал силу, становился угрожающе резким и настойчивым, он был гораздо больше умиротворенного и расслабленного тела, которое его издавало. И только осиновый кол, вбитый в сердце спящего, мог бы остановить этот рев.
А теперь это была Мэри — та, которая никогда не позволяла себе уснуть в автобусе или в поезде, считая, что спать на людях неприлично. Шмидт присел на кровать. Зная, как она смутится, узнав, что храпела, он потряс Мэри за руку, потом попытался перевернуть на бок. Бесполезно. В ней будто спрятался буйный пьяный сатир, выводящий без устали одну и ту же трель на визгливой дудке.
Шмидт забрался рукой под легкое одеяло, отыскал край ее ночной рубашки, поднял его и стал гладить ее бедра. Нажав посильнее и потянув к себе, он слегка раздвинул ее ноги. Мэри начала брить ноги еще девчонкой, но в последнее время перешла на воск. Наверное, из-за своих головных болей она забыла об этой процедуре — жесткая щетина напомнила Шмидту то время, когда Мэри впервые позволила ему забраться к ней под юбку. Не сводя глаз с ее лица, следя за сменой эмоций, Шмидт отбросил одеяло с ног Мэри. Бедра, как и ягодицы, были у нее массивными — хоть под седло. Мэри стыдилась их, но Шмидту зад и ляжки жены доставляли много радости. Все еще опасаясь разбудить, Шмидт согнул ее ноги в коленях — чтобы можно было лечь на Мэри сверху — и продолжил ласкать ее бедра с внутренней стороны. Поднимаясь все выше, он, наконец, коснулся губ и раздвинул их. Сухо. Шмидт омочил палец слюной и начал водить по кругу. Храп не учащался, да и вообще не менял ритма, но Мэри вдруг начала обильно мокнуть, и пальцы Шмидта, один, потом два вместе, легко скользили вверх и вниз между ее губ, а потом в ней, глубже и глубже. Внезапно его охватило наслаждение такой силы, что он даже не успел сунуть свободную руку в брюки. Когда содрогания отпустили, Шмидт взял руку жены, которая все это время покоилась на ее животе, и положил туда, где только что была его рука, укрыл Мэри простыней и выключил настольную лампу. Дни стояли еще долгие, и даже при задернутых шторах в комнате было светло, лицо Мэри сохраняло полную невозмутимость. Шмидт испугался, не может ли такой громкий и продолжительный храп — ведь он думал, что, как его старик, Мэри будет храпеть до самого утра, — навредить голосовым связкам, но потом решил, что, видимо, связки в этом деле не участвуют, а все эти жернова и пилы визжат и скрежещут где-то в носоглотке. Шмидт еще раз проверил ее руку: она осталась на прежнем месте, но пальцы, казалось, расположились свободнее и удобнее. Мэри утверждала, что никогда не забавляется сама с собой. Шмидт же хотел, чтобы она научилась мастурбировать — в надежде, что это поможет стронуть лед, и ей легче будет кончать и не придется великодушно просить его не беспокоиться, потому что ей, будто, и без того хорошо.
Читать дальше