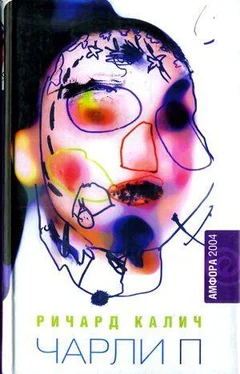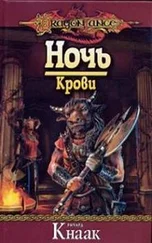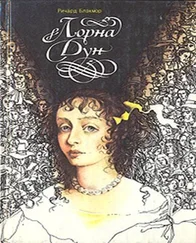Затем я разбудил Бродски, еще не было семи часов – он, конечно, должен был слышать звон будильника, который я поставил на бюро рядом с его кроватью. Затем, сопровождая свои шаги ритмом японской песни жертвоприношения, звучащей из недавно купленного портативного магнитофона, я поднял его из кровати и понес в гостиную, где подушки уже ждали его. Я был одет в кимоно и сандалии (моя версия церемониальной одежды), и на моем лице было более торжественное и непоколебимое выражение, чем обычно. Накануне вечером я постелил мат для упражнений, а сегодня на него, в дополнение к подушкам, поставил кресло малыша со снаряжением, позволяющим ему сидеть прямо. Все это было сделано до обычной ежедневной утренней рутины: мытья, чистки зубов, перемены подгузников, кормления, и даже до некоторых ритуалов, которые он ухитряется проделывать (просыпаясь, он обычно зевает и потягивается; не расправляет руки и ноги, которых у него нет, но все же потягивается), – однако даже этого я не позволил ему в это утро.
Я уверен, что он знал, благодаря этому самому отличию, что сегодняшнее утро обещает что-то особенное. И это что-то предназначено для него. Но что? Затем я оставил его сидеть перед подушками ровно пять минут, прежде чем поместить на каждую из них по одному предмету. На первой подушке были положены остатки от моего вечернего ужина; ничего из того, что он обычно ест: кусочки сваренного вкрутую яйца и рассыпанные остатки скорлупы. На другой – вчерашняя газета.
Ни один из этих предметов не обладал какой-то особой привлекательностью для него. Ни один не имел существенной ценности ни в себе, ни сам по себе. Прошлый опыт подсказывал мне, что он никогда бы не заметил ни один из них при обычных обстоятельствах. Но нет ничего обычного в этом заключительном наказании… не так ли, малыш? Мы с Бродски оставались там, перед подушками, в течение двух с половиной часов, пока он наконец не сделал выбор. Задыхаясь, в перепачканном подгузнике, дрожащий (я оставил окно открытым), полусонный, он наконец остановил взгляд на подушке с остатками моего вечернего ужина. Услышав тонкий жалобный звук, исходящий от него, я приложил ухо к его рту, чтобы убедиться, что он действительно обозначает свой выбор. Он его сделал. Я слышал бурчание его живота. Не могло быть лучшего доказательства, чем это. Я знал, почему он выбрал остатки яйца и яичную скорлупу вместо газеты. Он хотел есть. Это было так просто. Рефлекс. Психохимический отклик. Я немедленно снял газету с подушки и бросил ее в черный блестящий мусорный мешок, который стоял прислоненным к стене справа от мата для упражнений, зная абсолютно точно, что глаза Бродски следят за каждым моим движением. Затем я поднял его с кресла, отстегнув сначала ремни, и перенес к кухонному столу. После кормления обильной вкусной едой (впервые за несколько дней) я позволил ему рисовать остаток дня.
Теперь, спустя две недели, я торжественно приступаю к заключительному наказанию. Каждое утро, всегда в одно и то же время, всегда одним и тем же способом, словно древний обряд, от которого нельзя отклониться, я повторяю этот ритуал. На каждой подушке я помещаю предмет – каждый предмет точно так же не представляет никакого интереса для Бродски, точно так же несуществен для него. Этот предмет может быть таким незначительным, как спичка, или сломанный кончик карандаша, или старый дырявый носок, или корка от дыни. Иногда предметы дублируют один другой: две бутылочные крышки, например, обе от кока-колы. Суть в том, что Бродски должен выбрать один предмет из двух. Почему и как он выбирает, не имеет значения, точно так же как и продолжительность выбора. Как только он его сделает, я бросаюсь на четвереньки, чтобы убрать предмет, тот, который неудостоился его улыбки, мурлыканья или Жалостливого взгляда, и бросаю в мусорный мешок, ожидающий, словно всепоглощающее жерло. Как только отвергнутый предмет исчезает в мешке, он никогда уже не появляется вновь. Затем, следуя Установленному мной порядку, я даю ему обильный завтрак, и в оставшуюся часть дня ему разрешается рисовать все, что захочется. Теперь, спустя две недели, я уверен, что он понимает не больше, чем раньше: система этой своеобразной суровой кары им не раскрыта. Система постоянна и неизменна, совершается мной, и все же совершенно не поддается расшифровке. Он ничего не знает, кроме того, что должен предпочесть один предмет другому, и это необходимое условие, чтобы получить разрешение рисовать, а не выбранный предмет исчезает. На данный момент этого достаточно. Моя главная цель в течение последних нескольких недель в том и состояла, чтобы научить его этому, и не более того. Он, по-видимому, не имеет представления, к чему это приведет. Как девственница, которую готовят для жертвоприношения. Как прекрасно она выглядит. Как ей приятно ощущать очищающие воды на своем теле. Какая честь получить столько внимания, и все это только для того, чтобы она стала еще прекрасней; волосы надушены, тело умащено маслом, вокруг рабыни. Но даже она подозревает, что случится после того, как она потеряет девственность.
Читать дальше