Праздник Всех Святых был его звездным днем. Он продавал хризантемы в горшках на кое-как сколоченном из трех досок прилавке у кладбищенских ворот. Используя своего сына Ивона, который, впрочем, не был ему сыном, в качестве подручного, Жюльен играл в делового человека. Как только набиралось у него три клиента, он принимался ходить между ними, наподобие комедийного слуги: согнувшись, то и дело поправляя большим пальцем сползавший на глаза берет, с таким видом, будто его разрывают на части и не дают вздохнуть. А сам между тем голову освежал и подсчитывал выручку, поскольку с цифрами был не в ладах. Для упрощения вычислений он все числа округлял до десятков, да так, что в иной год было выгодней купить горшок с тремя цветками, а в иной — с четырьмя. Достав из заднего кармана широченных бесформенных штанов толстый кожаный бумажник, он убирал в него деньги со сноровкой заправского барышника. Ивон довольствовался картонным подобием кошелька — коробочкой из-под сахара для диабетиков «Шантене», сложенной так, что получилось два отделения: одно для бумажных денег, другое для монет. Матильда, у которой он работал в саду несколько часов в неделю, подарила ему как-то старый бумажник своего сына Реми, зачиненный и начищенный до блеска, но уже в следующий раз, получая заработок, он снова извлек свое хитроумное приспособление, полагая его неопровержимым свидетельством изобретательности и смекалки. Он и в самом деле принадлежал скорее к homo habilis — смекалистым, нежели к sapiens — разумным: никто не знал, какого он роду-племени, однако наследственность угадывалась весьма сомнительная. Приемный отец посылал его развозить по домам хризантемы, которые предназначались не для кладбища. Ивон прилаживал к багажнику ящик с горшками, садился на велосипед, поворачивал кепку козырьком назад и несся по поселку с криками: «Живей, дурень, живей!»
Над ним насмехались все кому не лень. Еще в школе он сделался козлом отпущения для однокашников: излюбленное развлечение у них сводилось к тому, чтобы после уроков загнать его к подножию Адской башни, сохранившейся от средневековой крепостной стены, и кидать в него камнями. На уроках, в присутствии учителя, ему предоставляли временную амнистию, зато его имя склонялось на все лады в качестве отрицательного примера. Перемены тоже проходили сносно, за исключением дождливых дней, когда каждый норовил топнуть в лужу ногой так, чтоб хорошенько забрызгать его грязью. «Адские» мучения начинались по окончании занятий — в пять, когда вся школьная ватага высыпала на улицу. Он прижимался спиной к башне и ожидал, когда в него полетят камни, вместо щита прикрываясь портфелем, который держал на уровне лица. Камни сыпались градом, приглушенно стукаясь о портфель. Он уклонялся от ударов, а в промежутках, не имея иной возможности сопротивляться, мужественно бросал оскорбления в лицо врагам. Его излюбленное ругательство — звукоподражательное диалектальное словечко — превратилось в его собственное прозвище, с которым недруги бросались на него в атаку. Иногда камень попадал в ногу, и тогда он приплясывал, как индеец. Иногда он падал в изнеможении, испуская отчаянные вопли, которые вместо сочувствия вызывали у нападавших взрыв веселья. Не находилось никого, кто бы отвел грозу от парня, ставшего для других идеальным громоотводом.
Он притягивал к себе все мыслимые и немыслимые беды. В пятнадцать лет ему уже мерещились по стенам ящерицы и прочая фантасмагорическая живность, порождаемая белой горячкой, не говоря уже о реальных крысах, бегавших у него под кроватью. Когда умер Жюльен, в его доме с земляным полом не нашлось ни одной чистой простыни. Ивон унаследовал хибару и оттого даже приосанился. Женщины на улицах его сторонились, принимая примитивное вожделение, сквозившее в его взглядах, за жуликоватость. Беднягу чурались все. Его источенное циррозом тело нашли однажды в канаве, рядом лежал велосипед — верный спутник его жизни: надо полагать, его сбила машина, довершив, таким образом, работу, начатую еще мальчишками в школе. Жандармы быстро закрыли дело, благо никто не протестовал. Видимо, все считали, что это лучший для него исход. Он умер двадцати девяти лет от роду, одинокий, как бездомная собака, — такая вот лапидарная жизнь.
В тот день, когда Жюльен принес нам золотые зубы и кольца, Ивон пришел вместе с ним. Положив находку на кухонный стол, они отступили к двери, ожидая получить что-нибудь посущественнее слов благодарности. Мама сунула им по монете: отцу — покрупнее, Ивону — мелочь на конфеты, как пояснила она сама. Они не двинулись с места, и тут мама спохватилась, что забыла главное. Она извинилась — дескать, голова не варит, — и влага, переполнявшая ее истерзанные глаза, колыхнулась, едва не брызнув через край. Жюльен в замешательстве пробормотал заранее заготовленную с непосильной для него претензией на изысканность фразу, которую следовало воспринимать как выражение соболезнования, и шагнул было к выходу. Мама его удержала: выпейте непременно. Он помялся больше для вида, мол, не хочет отнимать у нее время, но в общем-то не отказывается. А мальчику? То же, что и отцу, ему не привыкать, стаканом вина его не смутишь. Ивон мотнул прилипшим ко лбу сальным чубом так, что ясно стало: не смутишь. Мама же испуганно предложила ему мятного сиропу, которым потчевала детей. Может, попробует? Ивон покраснел и молча потупился. Не стоит беспокоиться, вмешался папаша, выпьет то же, что отец.
Читать дальше
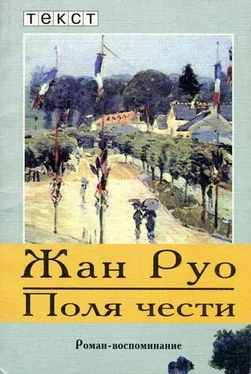

![Жан Ануй - Томас Бекет [=Бекет, или Честь Божья]](/books/78196/zhan-anuj-tomas-beket-beket-ili-chest-bozhya-thumb.webp)
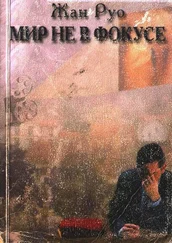
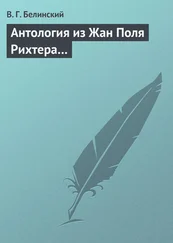





![Кирилл Корзун - Клинок чести [= Зов чести] [litres]](/books/393419/kirill-korzun-klinok-chesti-zov-chesti-litres-thumb.webp)

