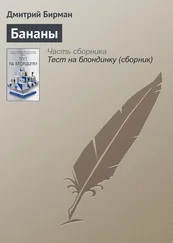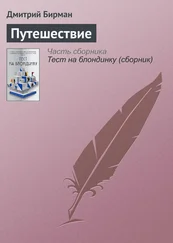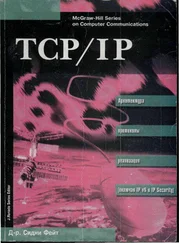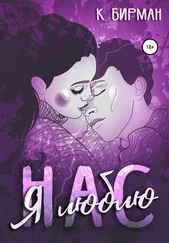В очередной раз Б. наступает на грабли – присоединяется к экскурсии по Хайфе с участием широких народных масс Еврейского Государства. Широкие народные массы постоянно отстают, к объяснениям экскурсовода (первая скрипка) они подмешивают свои разговоры – пиликанья скрипочек разных размеров и играют на них невпопад. Их милые детки считают, что ноги Б. занимают слишком много места в этой маленькой стране, и свободно разгуливают по ним. Они вырастут беззлобными, как и их родители, и ни в чем не будут ограничивать своих детей, думает Б. и в который раз пытается решить для себя, хорошо это или плохо.
Они останавливаются перед небольшим обелиском, посвященным посещению Святой Земли кайзером Вильгельмом II и его женой Августой-Викторией. Экскурсовод привычно ведет рассказ, словно стоя на носу лодки, которая раскачивается из стороны в сторону разгуливающими по ней слушателями. Но он, невзирая на помехи и балансируя, уже рассказал толково и подробно о раскинувшемся перед ними Хайфском заливе, не забыв указать на окружающие холмы и перечислить их названия. Он держит в вытянутых руках фотографию больницы, построенной в честь Августы-Виктории в Иерусалиме.
– Ребенок не видит картинку, – прерывает экскурсовода женщина, и он безропотно опускается на корточки перед ее дочерью – четырехлетней гражданкой, которая не удостаивает фотографию взглядом и вопросительно смотрит на мать.
– Сейчас мы спустимся в Бахайские сады, – продолжает экскурсовод, – просьба к детям не бросать жевательные резинки, фантики, не кричать.
– В общем – не дышать, – шутливо комментируют народные массы призыв экскурсовода к соблюдению порядка, отдающий, по их мнению, нацистским душком.
Почему лучшие здания Еврейского Государства построены если не христианами, то бахаистами, рождается в душе Б. один из его бесчисленных внутренних монологов. Почему такое омерзение вызывает в нем субботняя грязь улиц в ультрарелигиозном квартале Мeа-Шеарим? Неужели им до такой степени все равно, что он думает о них? Кто виноват, он или они, в его законченном неприятии религиозных традиций? В чем смысл упорства, с которым они надевают в августовскую жару Ближнего Востока меховые шапки из пушистых хвостов в память о том, как лихо они обвели вокруг пальца какого-то польского воеводу, запретившего им носить меховые шапки польской зимой, но не распространившего свой запрет на хвосты? До сих пор спор с польским воеводой несет для них больший символический груз, чем необходимость здесь и сейчас ужиться с ним, Б.?
Он, конечно, помнит наизусть эти строки: “В начале сотворил Бог небо и землю, и была земля безвидна и пуста, и дух божий носился над бездной...”. Но как можно было от величия этих строк дойти до хвостов, напяленных на голову, поверх которых еще может быть надет полиэтиленовый пакет, защищающий эти хвосты от дождя? До постановлений о недопустимости ковыряния в носу по субботам? За три тысячи лет не поставить ни одного физического эксперимента! Упереться в божественное откровение и игнорировать все, что происходит в божественном мире! Одной десятой энергии, вырвавшейся наружу после того, как евреи в массах стали выбираться из расколотой скорлупы еврейской религиозности в 19-м веке, хватило на создание нового государства. А где другие части? Треть ушла на растопку в Европе, треть распылилась без толку в России, треть в Америке напоминает то созревшую грушу, то катающийся в кузове грузовика опрокинутый полный бидон с молоком.
– Что за странный образ? Никогда не видел, чтобы бидоны, полные молока, катались по дну кузова, – заметил Я., с которым Б. поделился своими мыслями, когда они вдвоем поехали в монастырь молчальников в Латруне за винами и коньяком. – Пустые, да. Но полные?
– Мало ли! Тряхнет. Или затормозит впереди кто-нибудь резко, – сказал Б., но тут же улыбнулся и добавил: – Да ладно, это так – образ из тех мрачных пророчеств, которые сбываются редко, как, например, Катастрофа. Упрямый интеллектуал, правда, без труда объяснит нелогичность происшедшей трагедии и объявит своей победой возврат в исходную точку еврейского рассеяния. А вот скажи мне лучше, – обратился он к Я., – почему самая длинная и уродливая улица в стране названа именем наивного фантазера и рыцаря, элегантного стилиста? (Б. имеет в виду Жаботинского.) Разве не логичнее было бы назвать ее улицей Штынкеров (Говнюков)? Уж я не знаю, какое количество потенциальных граждан, приехавших посмотреть еврейскую страну из Филадельфии или Нью-Йорка, поклялось, что глаза их никогда больше не увидят этого позора, однажды проехавшись по улице Штынкеров. Красота победит мир, – Б. намеренно перекраивает Достоевского на боевитый ближневосточный манер. – В красоте – огромная сила, – говорит Б. – А улица Штынкеров подталкивает Соседей к мысли, что нас еще можно сковырнуть, а друзей – к впечатлению, что это еще одно грязненькое жидовское местечко, которых тысячами смыла жизнь в прошлом.
Читать дальше