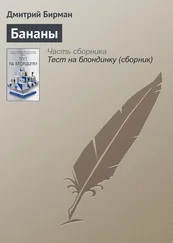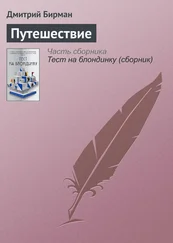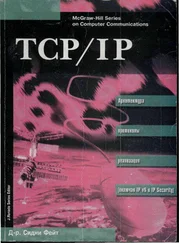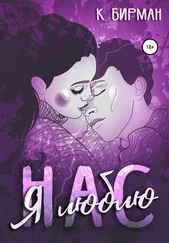Я. следит за Баронессой. Она ни за что не выскажется сейчас. Но, молча, она на стороне А. с необычной для себя жесткостью. Тут женская солидарность оказывает на нее так же мало влияния, как сопротивление воздуха на скорость полета падающей гири.
Жалостливый Б. пытается перевести спор в более общее русло.
– Мы возвращаемся к старому спору о столкновении идеи еврейских пророков, их модели справедливого общества и англосаксонской идеи личной свободы и личной же ответственности... – начал он, но разошедшегося А.-иньку не так легко остановить. Он гремит как Зевс, заподозривший Геру в измене:
– Вот и получается, что все это прекраснодушие – фиговый листочек для эгоизма и безответственности...
– ...я не стану цитировать еврейских пророков, – продолжает Б. настойчиво, и А.-инька понимает наконец, что ему пора остановиться, – но мне запомнился эпизод из воспоминаний одного еврейского автора девятнадцатого века, получившего одним из первых светское образование. Он рассказывает о еврейских нищих, что они отличались от нищих христианских, униженно просивших милостыню у двери, тем, что смело входили в дом, требовали помощи и, если бывали ею недовольны, могли проклясть хозяев. Из того же, что мы видим вокруг себя, нельзя не прийти к выводу, что англосаксонская идея индивидуальной свободы и индивидуальной ответственности победила у нас старую еврейскую благотворительность.
– Члены Кнессета Зеленого Дивана, – заключает дискуссию Я., – проходят собственный процесс ломки. Свой переход они совершают от традиции русской, высоко ценящей искренние намерения и легко прощающей отрицательный результат, когда он обуславливается постоянно свирепствующим в России форс-мажором или недостатком личной мотивации.
Станцией назначения этой ломки, полагает Я., является (в русле общегосударственной тенденции) англосаксонское самосознание, чей идол – результат.
Дальнейшего обсуждения не последовало, не впервой этому Кнессету поднимать бокалы за англосаксонскую бодрость души.
– Так все же, что будет со всем миром и с самой Америкой и, если дух WASP даже из нее испарится? – снова задает А. свой изуверский вопрос.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Материалы заседания засекречены до 2057-го года).
– И это что же – такая толстая книга, и в ней – ни слова... – слышим знакомый голос.
– ...ни слова о чувственной любви? – спрашиваем с упреждением господина Е.
– Ну да, о ней.
– Будет, будет и чувственная любовь, сейчас же начнем. Эй, там, в оркестровой яме, готовьтесь к празднику, на сцене декорации... Комнаты... Номер... Гостиница... Дом... Неважно... Лучшее из того, что сумели найти в государстве, прилегшем на бок у моря. Яркий свет на сцене горит, а в зале и тусклый гаснет. На ложе восходит живая мечта в одеянье из теплого ветра.
– И что, эта ваша мечта – только в теплом ветре? А в гневе она что, никогда не бывает? И кукиши никогда не показывает?
– Кукиши не показывает, а в гневе бывает. Тогда глаза ее пылают жарче влюбленных сердец. Ты ведь знаешь, наверное, как прекрасна бывает женщина в гневе. Вот только в гневе она уходит от нас, скрывается... Ведь она не тигрица в неволе, чтобы демонстрировать нам свою ярость.
Стоп, Стоп. Стоп. Собираем билеты у всех пришедших в строгих костюмах и платьях с вырезами для бриллиантов, возвратим им деньги за спектакль, который мы намерены теперь сыграть только для самих себя. Мы убираем со сцены и часть декораций. Зрители ушли, а мы остались, осталась и она, а еще слышна, но теперь уже издали, музыка. Само собой, само собой – Брамс, третья симфония, теперь уже без фортепьяно. Музыканты остались.
И кто же это в номере с декорациями? Да это вы. Ну да, вы. С кем? С ней, все с той же. Вот она, сидит на белом ложе с разбросанными подушками, одеялами в беспорядке, поджав под себя ногу... Вы себе, себе рассказываете, чтобы самому же и вспомнить потом, и сравнить. Эта черточка на лице ее год назад была и короче, и мельче. Так, может быть, и не лучше, но теперь она больше воспоминаний хранит. Воспоминания эти – озеро, над которым все время идут дожди. Не повторится ничто, даже складки этой легкой ткани на ней не лягут так же, не откроют-прикроют того же. И эта улыбка, с которой смотрят на вашу нерешительность сегодняшнюю (что это за огорошенность нашла на вас?), и она, эта улыбка, в точности так же освещена не будет зажженными для памяти вашей огнями. Вы сумели бы нарисовать ее губы именно в этой улыбке? А глаза вот в этой насмешке? И тонкие руки ее разве так же завтра выйдут из рукавов? И ведь вы еще ни одной складочки на этом легком убранстве ее не нарушили. Вы еще не решили, к какой оборке раньше притронуться. Отметили для себя, чем глаза ее, от туши отмытые теплой водой, отличаются от парадного их наряда? Ага, говорите вы, как теребимое ветром платье в неярких цветах от ее же черных и строгих костюмов. Так вы теперь прислушались к собственной жизни? Вы определенно становитесь нам интересны. А ей вы об этом расскажете? Как? Какими словами?
Читать дальше