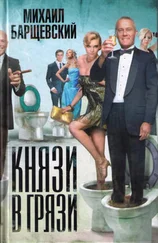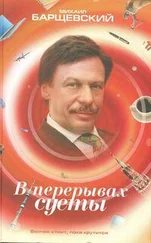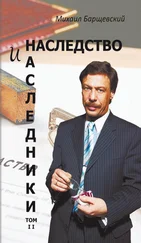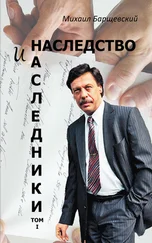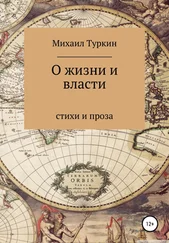А Вадим продолжал:
— Он же рецидивист, он же, сами понимаете, законы не на юрфаке изучал, а на зоне, поэтому и придумал такое.
«Это он Белолобову больно на мозоль наступил», — подумала Ирина Львовна, вспомнив, что судья-то юрфаковского образования, как и вообще никакого юридического, не имеет.
— Значит, так! — перебил теперь Белолобой, который успел взять себя в руки. И, не отреагировав, а может, и не поняв намека Осипова, уже спокойно продолжил: — Вы, товарищи адвокат и полуадвокат, пойдите в зале посидите, а мы тут покумекаем с прокурором.
Через пятнадцать минут процесс продолжился.
Прокурор попросила, естественно, признать Дзинтараса виновным и приговорить к лишению свободы сроком на два года. Осипов, также естественно, попросил оправдать в связи с тем, что имел место добровольный отказ от совершения преступления, не вовремя пресеченный сотрудниками милиции.
Написание приговора заняло у Белолобова меньше часа. Наказание — год исправительных работ в местах, определяемых органами отбытия наказания (по-простому — «на химии»). Вот тут и наступило время Дзинтараса оторвать глаза от пола и ошарашенно посмотреть па судью. При этом он произнес что-то по-латышски.
Вечером Осипову домой позвонила секретарь консультации и сообщила, что завтра к десяти утра Феликс Исаакович ждет сто у себя в кабинете.
Феликс смотрел на Вадима с нескрываемым удивлением. Долго смотрел.
Потом сказал:
— Вы понимаете, Вадим, чем рисковали?
— Чем, Феликс Исаакович?
— Тем, что могли вылететь из коллегии, так и не успев в нее попасть!
— Хуже было бы потерять ваше уважение… — Вадим сделал паузу, набрал воздух и выпалил: — Уважение к мнению и оценкам Ирины Львовны!
— Ну, ты и нахал, — сорвавшись на «ты», сказал заведующий. — Л кстати, вы не забыли, Вадим, что кража есть формальный состав, и преступление считается оконченным с момента изъятия объекта…
— Как! — вскрикнул Вадим. — Но он же помещение не покинул!
— И мне известно, что ваш подзащитный в суде заявил, что он из «Детского мира» вышел на улицу и лишь потом вернулся!
— Черт! — вырвалось у Вадима.
— Надо лучше законы читать, юноша! И подзащитных готовить грамотно! — довольный собой, подытожил заведующий.
— Вадим! Вы идете? Мне нужны ваши штаны! — опять раздался из-за перегородки голос Ирины Львовны.
— Иду-иду, — отозвался Вадим и, обращаясь к посетителям, немолодой паре, сидевшей у пего в кабинете битый час, сказал: — Извините, я на несколько минут вас покину. Коллеге нужен мой совет.
В Московскую городскую коллегию адвокатов, куда принимали не более двадцати выпускников юридических вузов в год, Вадим Осипов попал с третьей попытки. Членом КПСС не состоял, родители в адвокатуре не служили, так что ни для горкома партии, где согласовывалась, вернее, утверждалась каждая кандидатура нового правозаступника, ни для Президиума коллегии Вадим не был «своим парнем». Но все-таки его приняли. За настойчивость, блестящие знания. И терпение.
Но работать адвокатом, в смысле быть принятым в коллегию, еще не означало стать адвокатом. Стать адвокатом, а не числиться им, значило, прежде всего, иметь клиентуру, то есть людей, обращавшихся именно к тебе. Людей, которым тебя порекомендовали их друзья и знакомые, уже имевшие радость отдать тебе свои деньги и остаться при этом довольными.
Обычно на то, чтобы обзавестись «клиентской базой», уходило лет десять. Столько Вадим ждать не мог и не хотел. И семью надо было кормить, и амбиции не позволяли.
Правда, существовал еще один способ, помимо самостоятельного десятилетнего труда в надежде на светлое будущее. Адвокаты старшего поколения — имеются в виду хорошие адвокаты — кто из-за перегруженности работой, а кто и из лени, частенько передавали обратившихся к ним клиентов молодым. Неписаное правило предусматривало обязанность молодого адвоката выплатить сосватавшему клиента «старику» тридцать процентов гонорара. Для некоторых «стариков» эти доходы становились чуть ли не основными. Однако Вадима подобная ситуация не устраивала. Да, деньги были нужны до крайности. И семьдесят остающихся процентов гонорара пришлись бы весьма кстати.
Но, проведя пару дел таким традиционным для молодежи образом, Вадим объявил, что больше дела «за тридцать» не принимает. «Старики» хмыкнули, покачали головами, мол, ну-ну, посмотрим.
В те времена все адвокаты вели так называемый консультационный прием граждан. На профессиональном жаргоне это называлось «улица». Стоила такая консультация один рубль. В среднем за одно дежурство, а их было два в неделю, можно было заработать десятку. Жить на 80 рублей в месяц Вадиму не хотелось. Что было делать? «Включить голову», — как говаривал ему отец.
Читать дальше
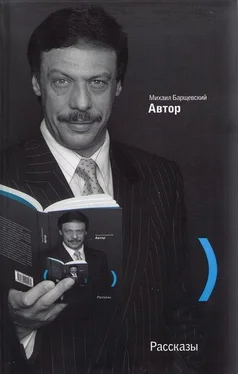
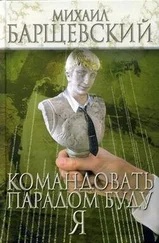
![Михаил Барщевский - Счастливы неимущие (Евангелие от Матвея) [Судебный процесс Березовский – Абрамович. Лондон, 2011/12]](/books/29215/mihail-barchevskij-schastlivy-neimuchie-evangelie-ot-thumb.webp)