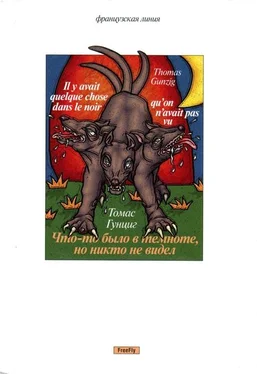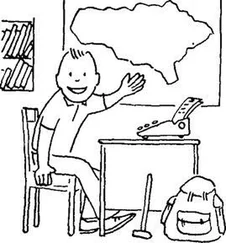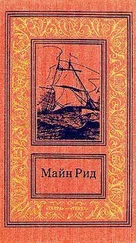Я слушал ее и все чаще замечал в перечне незнакомые мне слова. «Джаримол, Термолит, Брамосифер, Дуг…»
Расчищая заметенную снегом дорогу, я надеялся только на зиму: быть может, ее рассудок сохранится в холоде и безумие отступит.
Когда нас привезли в лагерь, я заметил по ту сторону колючей проволоки озерцо. В нем плескалась стайка уток, которых туманы над голой пустошью и мертвые деревья, похоже, ничуть не смущали. Звуковым фоном наших первых дней было кряканье утиной флотилии. Хоть что-то отрадное, даже погода казалась не столь скверной, так хорошо себя чувствовали пернатые соседи.
А потом один придурок из гестаповцев взял да и швырнул осколочную гранату в самую середину их лужи. Утки даже не улетели, когда он замахивался. Слишком невинные создания для низости человеческой, они смотрели в туманную даль, воображая себя викингами, покорителями Арктики. Взрыв разметал перья и тину, кряканье смолкло, улетела их мечта, как улетели бы они сами весной, если б дожили. И с тех пор только тишина вторила царившему над ней холоду.
Дело наше продвигалась еле-еле. И то сказать, много ли мы могли наработать при таком скверном питании и температуре ниже нуля, которую нам все труднее было переносить.
Почти все не на шутку разболелись. Высокий блондин еле волочил ноги и стал похож на загнанную лошадь, которая вот-вот падет.
Отец Миникайф отлынивал, только делал вид, что работает, иной раз ковырялся по нескольку часов с одним камнем. Мадам Ямамото тоже сильно сдала. Даже маленький поляк, самый молодой из нас, выглядел лет на сто. А Миникайф по-прежнему бубнила нараспев: «Гармода, Дритограл, Монторелик, Базатер…»
В общем, только мазохист и я еще были мало-мальски в состоянии работать. Совместными усилиями мы едва продвигали дорогу на метр в неделю. И от работы бок о бок с этим человеком, которого я ненавидел, мне было совсем тошно.
Мы хватились отца Миникайф утром, на рассвете.
Конечно, заглянули под его койку — мало ли, упал, откатился к стене. Но там ничего не было. Только пыль и сквозняки.
Мы переглянулись, всем стало не по себе: что бы ни случилось, все шишки повалятся на нас.
И мы не ошиблись.
Вошел охранник, чтобы отвести нас на работу. Мы стояли ровненько в ряд, постели заправлены, головы обриты, пижамы в полоску. Он сразу заметил, что одного не хватает. Посмотрел на нас так, что стало ясно: за ним не заржавеет, и спросил, куда девался старый хрыч.
Мы молчали — а что мы могли сказать, если не знали? Он начал злиться. Сказал, мол, раз мы не желаем отвечать, он сейчас позовет коменданта, а тому вряд ли понравится, что его потревожили в такую рань, так что, если кто с ним еще незнаком, все узнают, каково иметь с ним дело.
И тогда тихим охрипшим голосом заговорил поляк. Он сказал, что мы ничего не знаем, что, проснувшись, нашли его койку такой, как сейчас: пустой и незастеленной.
Охранник ответил, что он и слушать не желает враки польского пидора и что, если мы не скажем, где старик, нам всем не поздоровится. Он подошел к нам вплотную и уставился прямо в глаза.
Тут отважился высокий блондин, он повторил примерно то же, что сказал поляк, но очень ласковым, прямо-таки медовым тоном, словно обращался к младшей сестренке.
Охраннику не понравилось, что его держат за младшую сестренку. Он еще приосанился и рявкнул, что это он уже слышал и нечего вешать ему лапшу на уши, а блондинистому козлу зубы в глотку вобьет, если тот еще пасть откроет. После этого он повернулся и ушел, качая головой вправо-влево.
Вскоре пожаловал сам комендант, весь из себя чистенький и элегантный в своей меховой шубе.
Он тоже спросил, где старик. Понятное дело, из-за давешнего охранника никто не посмел и рта раскрыть. Мы молчали, глядя на запыленные носки наших ботинок.
Комендант отдал охраннику приказ и удалился. Охранник сказал, что он нас предупреждал и сейчас мы узнаем, почем фунт лиха.
Он вывел нас, всех шестерых, в снег и ледяную утреннюю мглу. Холод был страшный. Даже охранник, тепло одетый, поеживался и втягивал голову в плечи, проклиная зиму.
А нам, в пижамах, с бритыми головами, и получаса, четверти часа было не продержаться.
Всего несколько минут, но каких долгих, мы стояли в снегу. Я чувствовал, как в меня мало-помалу, точно сквозняк, проникает смерть.
Комендант ухмылялся.
И тут блондин упал на колени.
— Я больше не могу! Мое слово — Филармония.
Комендант кивнул охраннику, тот достал блокнот и сверился с записями.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу