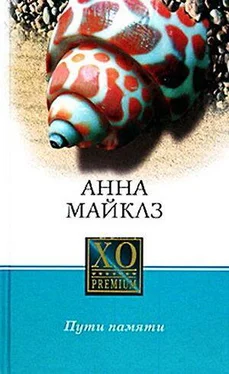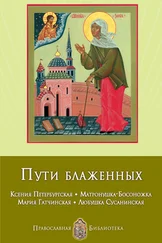Есть ли такая женщина, которая неспешно
обнажит
мой дух, приведет тело мое…
Пока лимон не склонит ветвь, вес тени не разделит листья, оставив тебе место между ними. Пока холмы не станут застить взор и не заставят тебя сдаться. Пока густая пустота между листом и воздухом / не станет их соединять, вместо того чтоб разделять.
Есть ли такая женщина, которая неспешно обнажит
мой дух, приведет тело мое к вере…
Пока чудесное жужжание жуков меня не пробудит.
Многие недели я в полудреме дрейфовал по жаре в воздухе долго запертых комнат, поиски твоих записных книжек шли все более медленно и вяло. Из открытой двери плыли в воздухе запахи выгоревшей на солнце травы.
Как-то днем я резко раскрыл глаза. Кровь забурлила от прилива адреналина – мне почудилось, что вы с Микаэлой вот-вот возникните в дверном проеме. Тень пролетела по дому быстро, как мысль, но этот краткий миг ничего не изменил.
Мысль мелькнула в голове – вы все еще живы. Вы спрятались, чтобы остаться наедине со своим счастьем.
Все тело мое напряглось от такого прилива целенаправленной энергии, какую раньше мне никогда не доводилось испытывать.
До восемнадцатого века люди думали, что молния – это эманация земли или результат трения облаков друг о друга. Долгое время многие пытались раскрыть истинную природу молнии, потому что не отдавали себе отчет в том, насколько это опасно. Молнию нельзя приручить. Она возникает при столкновении холода с жарой.
Между землей и облаками скапливается сотня миллионов вольт, пока раскаленный добела дротик не ринется вниз, а за ним еще один и еще – зигзаги ионов, пролагающие путь молнии, M доли секунды устремляющейся к земле. Окружающие этот путь молекулы воздуха раскаляются добела.
В промежутках между сполохами молний в электризованном пространстве под грозовой тучей слышится грохот скал, а металл – часы, кольцо – шипит, как масло на сковородке.
Молния может превратить стекло в пар. Она как-то ударила в картофельное поле – и картошка в земле сразу стала съедобной: когда собрали урожай, вся она была печеной. Молния поджаривала гусей в полете, и они дождем падали вниз, уже готовые к трапезе.
Внезапная сильная жара может очень растянуть ткань. Люди иногда вдруг оказывались голыми, одежда была раскидана рядом, даже ботинки с ног сорваны.
Молния может так намагнитить предметы, что они становятся способны поднимать вес, в три раза превышающий их собственный. Она как-то остановила часы, а потом снова заставила их ходить, только теперь часовые стрелки двигались в обратном направлении, причем в два раза быстрее, чем им положено.
Однажды она ударила в здание, а потом – в кнопку пожарной сигнализации, чтобы пожарники приехали тушить зажженное ею пламя.
Молния восстановила человеку зрение и заставила волосы снова расти у него на голове.
Шаровая молния влетает в дом через окно, в дверь, сквозь каминный дымоход. Она кружит в тишине по комнате, просматривает книги на полках и, как будто так и не решив, где ей удобнее устроиться, уходит тем же путем, которым проникла в дом.
Тысяча спрессованных мгновений несбывшегося сбываются за несколько секунд. Все клетки тела перестраиваются по-новому. Она коснулась вас – и металл на вас плавится. И оплавленный контур вашего тела впечатан в стул – в то место, где некогда вы украшали собой общество. Но самое страшное то, что она является вам в облике всего, что вы потеряли. Как то, чего вам больше всего недостает.
Петра выбрала столик у самого края дворика госпожи Карузос. Она сидела за ним в одиночестве. По манерам ее и одежде сразу становилось ясно, что приехала она из Америки.
Волосы у нее, как искристая рябь на воде. Крупный рот, голубые глаза. От многих дней, проведенных на воздухе, солнце позолотило ей кожу. Белое платье дождем блестит у нее на бедрах.
Она откинула голову назад. Страсть вонзила в меня зазубренное лезвие, но в ярком свете кажется, что оно гладкое.
Иногда, когда молния проходит сквозь предметы, рядом с которыми стоит человек, образы этих предметов впечатываются в ладонь, в руку, в живот, навсегда оставляя на них тень, как фотографию на коже. На боках животных иногда можно увидеть целые ландшафты. Я представил себе, сидя на другой стороне дворика, что у Петры божественная татуировка: посреди ее спины – такой цветок, цветок Лихтенберга. Я представил себе, что он впечатался, когда она была еще девочкой, и только резина велосипедных шин спасла ее от смерти. В невидимых волосках, сбегающих по ее шелковисто-золотистой пояснице, и теперь еще живет слабое дыхание электричества. Сам цветок такой бледный, что, кажется, даже вода может его смыть, он такой хрупкий, будто морозом побитый, и если дыхнуть на него – только прах останется. «Твоими бы устами да Богу в уши». Поклонение твое тому цветку до лампочки. Цветочек тот призрачный навечно в кожу впечатан, будто клеймом, с ума сводящим.
Читать дальше