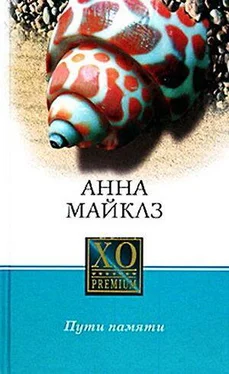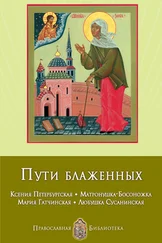* * *
Наконец, я ввел ее в твой дом. Петра чувствовала, что твое жилище стало святилищем, и ходила по комнатам, как по музею. Бросив взгляд на открывшийся вид, она не сдержала возглас восторга. Она разделась на полуденном солнце, теплом даже в середине октября, и стояла совсем нагая на террасе. У меня даже дыхание перехватило. Я увидел вдруг Наоми за день до отъезда в зеленом свете нашего садика под дождиком с мокрыми простынями в руках. У заднего входа Наоми, промокшая до костей, скинула шорты, бросила мокрую рубашку на столик у раковины, чтобы туда стекала вода. Жена моя стояла во всей своей первозданной красе, а я даже обнять ее не удосужился.
Петра повела меня в дом, я пошел за ней наверх. Она открыла дверь в твой кабинет, потом – в комнату, которая была за ним, потом нашла твою спальню. Она распахнула шторы, и простая комната стала блистательным покоем – все вдруг сделалось ослепительно белым, кроме бирюзовых подушек на кровати, как будто все пространство внезапно затопил солнечный прилив и, отхлынув, оставил здесь кусочки моря.
Потом Петра начала стягивать с кровати тяжелое покрывало.
Мы нашли записку Микаэлы там, где она ее оставила. В конце чудесно проведенного дня тебя ждал сюрприз. Ты должен был найти его под подушкой той ночью, когда вы с Микаэлой не вернулись из Афин. Там было всего две строчки, написанные синими чернилами:
Если родится девочка – Белла
Если родится мальчик – Бела
Я совсем стянул покрывало с кровати, и мы с Петрой легли на него на полу.
Петра совершенна – ни родимого пятна, ни шрама. Я наполнял ее собой до тех пор, пока нам двоим не стало больно. По лицу ее катились слезы. Я сжал зубы, и брызги, взлетевшие в воздух, упали ей на живот. Испачкал покрывало, откинулся на спину весь в поту и закрыл лицо ее волосами.
Мама любила мне напевать одну колыбельную: «Тише, тише, не шуми. Туда ведет много дорог, обратно – нет ни одной…»
Первую работу в качестве дирижера папа получил в родном городе. Незадолго перед войной родители перебрались в Варшаву. Неподалеку от их дома раскинулся старый лес. Родители часто ходили туда на выходные, устраивали там пикники. В 1941 году нацисты стерли с карты имя того леса. Потом три года подряд они убивали в том лесу людей. После убийств оставленных в живых евреев и советских заключенных заставили заново отрыть сочившиеся кровью ямы и сжечь останки восьмидесяти тысяч человек. Они вырывали тела из земли. Они погружали голые руки не только в смерть, не только в склизкую гниль разлагавшихся тел, но в чувства и веру, в признания. В память одного человека, потом другого, тысяч, представить жизни которых было их долгом…
Рабочие были связаны вместе цепью. На протяжении трех месяцев они еще тайно копали подземный ход длиной больше тридцати метров. 15 апреля 1944 года заключенные бежали. Тринадцати из них удалось выйти на поверхность живыми. Одиннадцать, включая моего отца, дошли до партизанского лагеря, хоронясь в лесной чаще. Отец и те, кому удалось с ним бежать, выкопали подземный ход ложками.
Наоми говорит, что ребенок не должен наследовать страх. Но кому дано отделить страх от тела? Прошлое родителей стало моим на молекулярном уровне. Наоми кажется, что она может не допустить, чтобы солдат, который плюнул в рот моему отцу, плюнул в рот и мне через отцовскую кровь. Мне хочется верить в то, что она может смыть страх у меня изо рта. Но я представляю себе, что у Наоми родится ребенок, а я никак не смогу его защитить от тех своих мыслей, что будут роиться у него в голове, пока он будет расти. Это даже не выжженный в коже номер на руке отца, что так меня пугал. Это что-то другое, что может случиться, потому что я видел этот номер.
Я так никогда и не узнаю, что могло бы произойти, если бы те два имени, что были написаны на обороте отцовской фотографии, были произнесены вслух – может быть, тогда они заполнили бы собой молчание, царившее в квартире родителей? Лежа рядом с Петрой, я возвращаюсь к нам на кухню, где мама плачет, сидя за столом, на котором все расставлено для приготовления ужина. Возвращаюсь, чтобы увидеть, как Наоми касается маминой руки.
Я возвращаюсь на кухню, где Наоми узнает снимок, который отец прятал от меня столько лет. Мы сидим там с Наоми в молчании, а вода из крана смывает в раковину остатки ужина.
В тот вечер, Яков, когда мы с тобой встретились, я слышал, как ты сказал моей жене, что, бывает, наступает такое мгновение, когда любовь заставляет нас впервые поверить в смерть. Ты распознал тогда душу, чью еще не свершившуюся потерю ты до конца пронес бы по жизни, как спящего ребенка. Любое горе, чье угодно горе, сказал ты тогда, весит столько, сколько весит спящий ребенок.
Читать дальше