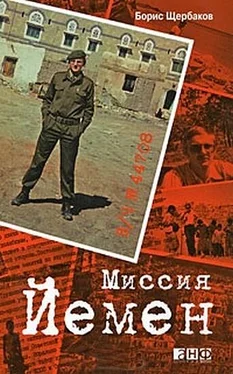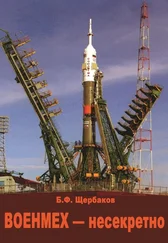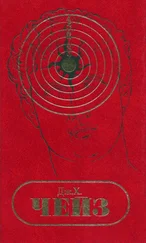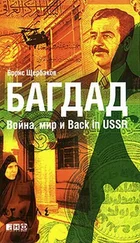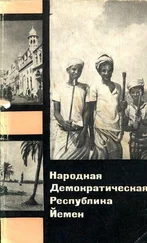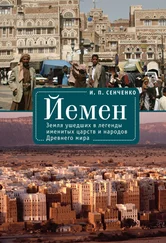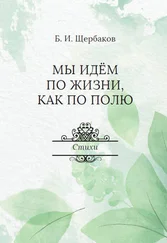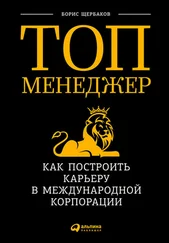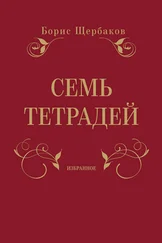Оказалось, что он окончил Академию химзащиты в Союзе, но в силу каких-то личных обстоятельств из армии давно уволился и имел свой собственный гешефт на Суку.
Сук для нас был Меккой покупателя. Многие прибыльные покупки (с целью перепродажи в Союзе!!) совершались именно на Суке в так называемых дарзанных лавках. («дарзан» — дюжина по-арабски). Сомнительного качества и подозрительного происхождения косметические наборы PUPO, к примеру, были хитом хабирского «бизнеса» и расходились на ура в Союзе, где, смею напомнить, в конце 70-х вообще мало что было из промышленных товаров, косметики, одежды. Или взять вельветовые джинсы!!! Не помню точно цен, но прибыль на перепродаже пары достигала 500 и более процентов!!! Каюсь, на подарки и так, для возможной продажи, я тоже привез «дарзан». Разлетелось вмиг. Дефицит, однако, хотя и отвратного качества.
Дарзанами покупались майки, бейсболки, ручки-калькуляторы и ручки-часы (это было электронной новинкой!), собственно часы, дешевые тайваньские штамповки, и многое другое. И, конечно, вожделенный союзными модниками тогда «кримплен» (был такой тип синтетического материала, как сейчас бы сказали, «стрейч»).
Чего собственно каяться. Через каких-то десять лет миллионы советских граждан, пренебрежительно названных «челноками», будут осаждать подобные «дарзанные» лавки по всем соседским торговым меккам, вроде Турции, Китая, Эмиратов. Выторговывать оптовые скидки, организовывать переправку в Россию тысячами клеенчатых клетчатых тюков (с той лишь разницей, что в мои годы вся эта экономическая деятельность подпадала под вполне конкретные статьи Уголовного Кодекса СССР…). И советский потребительский рынок оживет, задышит, развернется к человеку, чего никак невозможно было сделать все предыдущие 70 лет!
На мой взгляд, то, что «челноку» памятники ставят сейчас спонтанно по всей стране (вот недавно в Благовещенске открыли), есть честное признание исторической справедливости: эта сфера экономики трудоустроила миллионы людей, из нее вышли практически все наши предприниматели и большая часть того самого «среднего класса» вообще. Появившиеся в 90-е годы клетчатые гигантские сумки, были уже шагом вперед по отношению к коробкам советского времени, я уж не говорю о возможности беспрепятственно пересекать границу, чего мы были лишены аж до 1988 г.
В те далекие годы советские военные специалисты по мере физических и материальных возможностей начинали осваивать профессию «челнока»: посылки со всякой всячиной, в том числе на перепродажу, перевозились всеми членами семьи, передавались на Родину с любой оказией, и редкий случай, что бдительность таможни препятствовала этому товаропотоку. Препоны ставили, конечно, и йеменские таможенники, и наши родные, но остановить процесс они не могли.

Через пару месяцев пребывания на птичьих правах в Хабуре, мы, четыре переводчика, переехали на первый этаж недавно отремонтированного жилого дома так называемых «Домов Генштаба». Четыре четырехэтажных серых каменных многоквартирных дома обрамляли пыльный пустырь (двор), на котором росло одно перечное дерево, лежали группы полудиких собак и резвились «хабирские» дети за неимением иных площадок для игры.
Мы — это Игорь Фомин, короче Митрич, со стажем уже второй командировки в Йемен (первая была в Южный), кряжистый, владивостокский парень из Института Военных переводчиков; Толик Кушниренко — выпускник того же ВИИЯ, он со мной вместе и прилетел в Сану; Игорь Карнач — «мгимовец», уже год с лишним работающий в ГСВС, спокойный, интеллигентный ленинградец, по прозвищу Абдурабба, не спрашивайте почему, так у него получилось исторически, наверное, кто-то когда-то назвал, так и приклеилось. Ну и ваш покорный слуга.
Наш этаж, по сути, был проходным вестибюлем, по обе стороны от него располагались узкие и тесные комнатки: 3 на 3 метра, кухня, туалет «с ногами». Мне повезло — я въехал в комнату без подселения, так что был волен обустраивать свой нехитрый лейтенантский быт без оглядки на соседей. Фанерный шкаф с облупившейся пластиковой облицовкой, железный офисный стол, один стул и односпальная кровать с панцирной сеткой — это все, что физически могло уместиться в каменный 9-метровый «номер». Но мне и это казалось роскошью после общажного дискомфорта Хабуры. Каменные стены еще сыграют свою роковую роль, именно благодаря им я проснулся в одно утро на 25-м году жизни с тяжелейшим радикулитом, и с той поры неизменно при переохлаждении мучаюсь этой хворью. Специалисты, правда, говорят, что это все от соли, но я точно помню, что пуда соли к 24 годам съесть еще не успел (хотя, может, и выпил с водою…).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу