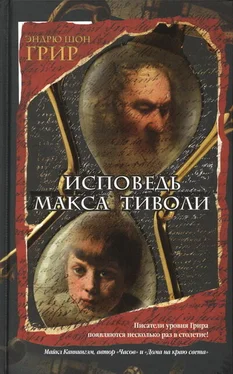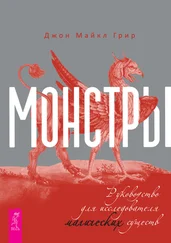Видимо, к таланту судьба благосклонна, раз Хьюго из сына учителя превратился в преуспевающего студента, а я, некогда богатый уродец, еще глубже закопался в дела методичного Бэнкрофта. Впрочем, как однажды заявила мне милая предсказательница, взгляды всех карточных фигур обращены в прошлое.
Моя борода стала пушистой, как шиншилла, и светлой, как солнечный осенний день, поэтому, когда Хьюго приказал мне побриться, я чуть не расплакался.
— Выбирай, — отчеканил мой друг, — каким ты хочешь быть, молодым или старым. На мой взгляд, ты уже достаточно проходил в образе старика.
Я пребывал в отчаянии. Из-за бороды девушки тотчас отворачивались от моего старческого лица, зато смеялись при виде усов — слишком уж я походил на тех вдовцов, которые прикрывают жалкими волосками лысины, а зимой еще и пудрят кожу до цвета загара. Престарелый жиголо, посмешище. После двадцати моя талия начала стройнеть, и я все меньше напоминал бургомистра кисти Брейгеля, однако подобные изменения казались невероятными и таинственными тем, кто знал меня дольше года. «Он что, носит корсет?» — шушукались на работе, и я был вынужден перейти на другую должность, продолжая свою карьеру у Бэнкрофта в одиночестве, прячась за старыми книгами. Хьюго был начисто лишен вкуса и, разок гордо прогулявшись солнечным днем в одной из его обновок — без пиджака, в кепке, в подпоясанных штанах, — я быстро понял, что похож скорее на эквилибриста, нежели на джентльмена. Мама, разумеется, согласилась, весь ее вид говорил: «Будь тем, кем тебя считают; будь тем, кем тебя считают». Я вернулся к сюртукам и складным цилиндрам, снова затерявшись среди безликих стариков. Я помолодею лишь когда состарюсь, не раньше.
Шли годы, я общался только с сестрой, мамой и Хьюго. Я устроил настоящий культ ожидания Элис, поддерживая огонек в угольках священных чувств, а через несколько лет, когда мне не удалось найти ее, я стал вдовцом собственных надежд. Подобно многим до меня — подобно пропавшему отцу и, наверное, моему дорогому Хьюго, — я потерял вкус к жизни.
Рядом была Мина, моя замечательная и совершенно обыкновенная сестра. В шесть, семь и восемь лет она ни на йоту не отклонялась от нормы — ни в росте, ни в весе, играла на фортепьяно так же талантливо, как и все маленькие девочки (то есть ужасно!), короче говоря, не отличалась ни преждевременным развитием, ни особой сообразительностью. Единственное, что сестренка научилась рисовать, — это конь (старенький Мэк, возивший нашу повозку); остальные ее картинки походили на ощетинившуюся инфузорию. Иногда сестра вела себя послушно, иногда закатывала скандалы, не желая идти спать. Калейдоскоп настроений Мины не позволял заподозрить в ней взрослого человека и скорее напоминал грани шулерского кубика — нарочитое послушание, прохладная почтительность, горькие слезы, яростный тайфун — каждый раз она избирала то поведение, которое было наиболее выгодным. В итоге я пришел к выводу, что Мина — не настоящий человек. Как и все истинные дети. Она была мошенницей, стремившейся стать человеком, то есть обыкновенной (и прошу вас, наборщик, вбейте эти слова самым понятным шрифтом) нормальной девочкой.
И несмотря на это проклятие нашего рода, мне не позволялось быть нормальным мужчиной. Поэтому для всего Саут-Парка я до сих пор оставался деверем миссис Тиволи, доживавшим последние годы своей холостяцкой жизни в заботе о родственницах. Мама сразу решила, что посвящать в семейную тайну ребенка нельзя — особенно болтливую Мину, — и я был представлен собственной сестре как дядя Макс.
— Мина, поцелуй дядю Макса на прощанье и перестань кривляться, малышка.
Конечно же, Мина не звала меня дядей Максом. Побывав на одной из церковных служб, она решила, что будет, подобно Адаму, самостоятельно давать имена людям и зверям. Сначала Мина обращалась ко мне дядя Боб, после нескольких поправок я стал Бибом, затем Билбом и, наконец, Биби.
— Би-и-би! — весело кричала она по утрам и также радостно взвизгивала по вечерам, когда я приходил с работы, громогласно выкрикивала за обедом, когда хотела соуса, обидчиво тянула, когда я забирал вазу из ее всесокрушающих ручонок, и, конечно же, умоляюще шептала, когда по вечерам я укрывал сестренку стеганым одеялом и пел ее любимые песенки.
Я завидовал ее молодости. Вы не представляете, каково было слышать девчоночий визг, разносившийся по всему парку и заставлявший кровь стынуть в жилах, видеть, что сей вопль сорвался с губ твоей сестры, и вдруг осознать, чем для нее было детство — жизнью. Мина только-только пришла в этот мир и уже стала его частью. Обласканная природой, ждущая любви и тепла от каждого встречного — и даже не подозревающая, что не все люди в мире любят друг друга, — моя сестра превратилась в столь прекрасное создание, что порой я ненавидел ее. Каждое утро я стоял на пороге ее комнаты и смотрел, как Мина моргает от света нового дня, такого же светлого и радостного, как и вчерашний. Разумеется, я скрывал эти занозы ненависти, сидевшие во мне.
Читать дальше