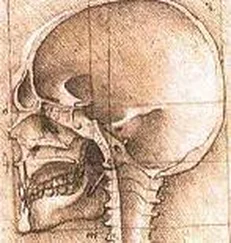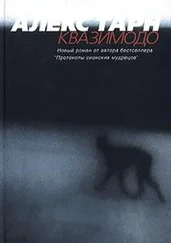Алекс Тарн - Невесть
Здесь есть возможность читать онлайн «Алекс Тарн - Невесть» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2009, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Невесть
- Автор:
- Жанр:
- Год:2009
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Невесть: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Невесть»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Невесть — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Невесть», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Я и поцеловала его первая, в тот же вечер, в парке, вернее даже не в парке, а на очень удобном кладбище, куда мы забрели, и не только поцеловала. Идти нам было некуда, ну то есть совершенно, да и зачем было куда-то идти, когда запах черемухи, или счастья, или не знаю чего там еще щекотал нам ноздри, и вокруг чернела мягкая летняя ночь? Мы нашли удивительно уютную скамейку, на которой, как говорят сегодня, можно было без всяких проблем «делать любовь», хотя чего ее было делать, когда она, готовая дальше некуда, уже высилась над нами, как сказочный джинн из кино про Синдбада-морехода. И когда мне стало мешать мое ласковое платье, я сняла его через голову, и дальше меня ласкал уже один только Веня, и этого было более чем достаточно.
Вот что такое отрада, и звезда, и невеста, понимаете? По-настоящему невестой можно быть всего один раз, так уж заведено, так, значит, суждено и надо с этим смириться, и ничего не поделаешь. И еще нельзя быть ею долго, потому что душа просто не выдерживает такого напряжения, истончается и рвется, как мебельная обивка. Получается, что жизнь нас жалеет, давая нам побыть невестой или побыть с невестой всего лишь один раз и ненадолго, а потом уводит ее невесть куда, оставляя горечь, именно горечь, ведь нет ничего горше такой утраты, ничего, ничего…
Веня знал все это заранее, он был очень умен, мой Веня, и не только знал, но и умел объяснить. Когда мы любили друг друга, то, приоткрывая отяжелевшие веки, я видела отсвет этой будущей горечи в его счастливых глазах, и оттого наше общее счастье казалось еще острей, еще глубже, как будто приправленное перцем отчаяния.
— Смотри, — говорил Веня. — В этом стихотворении каждая строфа — как мир, и этот мир похож на орех, в котором есть живая сердцевина и скорлупа, чтоб изнутри ничего не пропало. Видишь: пять строчек. Первая и пятая — скорлупа, оболочка, а те три, что между ними — вся наша жизнь, без остатка, с ее отрадой, и горечью, и судьбой, и долгом. Так что не нужно бояться горечи, она не страшна, ведь горечь вырастает из счастья; без нее и настоящего счастья не было бы, понимаешь? К тому же отраде все равно деваться некуда: вспомни про скорлупу.
— Как же так? — говорила я. — А как же «невесть ушедшая куда»? Ведь она все-таки уходит, отрада, ведь ясно же написано…
— А звезда? — возражал он. — Посмотри на первую строчку. У нас с тобой всегда останется звезда — там, за окном. Она часть нашей отрады, нашего счастья, вечное напоминание о нашей скамейке, о темноте старого кладбища, о застрявшем в ноздрях запахе черемухи и о твоем замечательном платье.
Что я вам говорила? Веня тоже тогда купился на мое платье в горошку. Все-таки оно работало безотказно, то платье, действовало на всех, даже на таких умников, как он.
— Но при чем тут лампада, Веня?
— Лампада — это тоже наша звезда, — смеялся он. — Будет тебе и лампада. Будет и лампада, и колыбель…
Над колыбелью тихий свет,
И, как не твой, напев баюнный,
И снег, и звезды, лисий след,
И месяц, золотой и юный,
Ни дней не знающий, ни лет.
Потом мы расписались и сняли комнату у метро «Горьковская», недалеко от «Ленфильма». Комната была странной треугольной формы и стоила ужасно дорого по нашим средствам, хотя и очень дешево по принятым тогда ценам. Причина этой дешевизны стала понятна, когда мы познакомились с соседями: сухоньким субтильным старичком дядей Колей и двухметровым краснорожим амбалом по имени Колян. Оба жили одиноко, оба пили запоями, причем запои дяди Коли отличались прямо таки научной регулярностью, то есть, длились ровно по десять дней и перемежались двухнедельным отдыхом, в то время как Колян глушил нерегулярно, зато беспредельно, и мог не просыхать месяцами.
Невзирая на устрашающую внешность, Колян был, в общем, существом безобидным. Напившись, плакал и жаловался на несправедливость, которую видел во всем: в собственном сиротстве, в уходе жены, в зажиме квартальной премии, в сегодняшнем поведении суки-бригадира и в том, что гастрономная Верка час тому назад выдавала всего по три бутылки в одни руки — даже в такие большие, как у него. В противоположность Коляну, субтильный дядя Коля в пьяном виде представлял нешуточную опасность: задирался со всеми, кто неосторожно вставал у него на пути, и чуть что хватался за нож.
К счастью, это происходило только в начальной стадии запоя, когда дядя Коля еще держался на ногах. В эти первые три дня он затаривался неимоверным количеством портвейна, варил огромную кастрюлю перловки, запасал десяток буханок черного хлеба и, стащив все это к себе в комнату, запирался на оставшуюся неделю, выползая уже только в туалет, а то и не выползая вовсе. В перерывах между запоями к нему ходили бесформенные женщины неопределенного возраста, оставлявшие в коридоре острый запах дешевых духов и немытого тела. Судя по доносившимся из-за фанерной перегородки звукам, в кровать дядя Коля своих возлюбленных не пускал, откровенно объясняя эту строгость боязнью насекомых, а вместо этого ублажал их по-простому, нагибая на колченогий стучащий стол, отчего сам акт любви напоминал сюиту для оханья с барабаном.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Невесть»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Невесть» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Невесть» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.