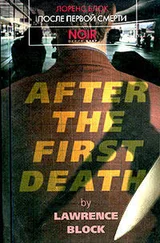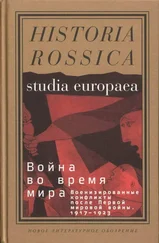- Я слышал это от стариков, живущих с нами в лагерях, и они рассказывали нам, насколько она красива. Они рассказывали, что если снять ботинки, то можно почувствовать богатство земли кожей своих ног. Там растут плодородные апельсиновые деревья, и летают голуби и жаворонки, и это – бальзам для глаза и духа, - он теперь повторял слова старика, и его голос лился, словно музыка. - Речная вода там нежна, а солнце шлёт земле благословение и на восходе одевает её в золото. Там небо синее, как вымытый дождём изумруд.
Кет подумала: «Такой странный мальчик, и какая патетика».
И затем она вспомнила, что в его кармане лежит пистолет, и один ребенок уже мертв.
- Кети, Кети… - вдруг закричал кто-то из детей.
Крик вернул её в реалии раскалённого на солнце автобуса и душного, горячего воздуха, наполнившего салон. Удушливый запах мочи поднимался из стоящего где-то поблизости пластикового ведра.
Кет вслушалась, но крик не повторился.
- Старики в лагерях, - сказала Кет. - В каких ещё лагерях?
Миро был доволен её вопросом. Ей было интересно – он хорошо делал свою работу. Но как он мог ей что-то рассказывать о лагерях беженцев, о бесконечной веренице гадких, переполненных убогими людьми мест, через которые он и Эниэл прошли первые годы своей жизни, когда никто не знал и не желал знать об их жалком анонимном существовании? Они существовали благодаря милостыни незнакомых людей, и когда не было милостыни, то они воровали. Эниэл был мастером в этом деле. Иногда где-нибудь на рынке Миро кого-нибудь отвлекал, а в это время ловкие руки Эниэла могли что-нибудь схватить – что бы то ни было, всё, что попадалось под руку. Пригодиться могло всё, что угодно. Как-то раз Эниэл вывернул из старого брошенного грузовика аккумулятор, и они обменяли его на еду. Пища была подпорчена и вызывала у них отвращение, но и тот аккумулятор также был бесполезен. Как обо всём этом он мог рассказать девушке?
- Моя нация превратилась в изгоев, мою родину заняли другие. Но нам позволяли жить в лагерях, - Миро изо всех сил старался поддержать её интерес, чтобы только не рассказать ей о голоде, о воровстве, о милостыни. Он не хотел перед ней унижаться.
- Ты сказал мы , кто были эти мы ? Твоя семья, твои родители?
- Только мой брат Эниэл и я. Он был на два года старше меня.
- А что ваши родители?
Он перевёл американское слово родители , в слова мать и отец на старом, родном ему языке, и в то же самое время он попытался испытать к ним какие-нибудь чувства, любовь – хоть что-нибудь ещё, но у него ничего не получилось.
- Я никогда не видел своего отца, - сказал Миро. - И никогда не видел свою мать, - почему-то в этом он всегда чувствовал свою вину: не знать своих родителей и не иметь о них никаких воспоминаний. В чём он был виноват? Он об этом думал немногими часами этой бессонной ночи. «Не трать впустую своё время на прошлое», - как-то сказал ему Арткин. Прошлого уже нет, настоящего – достаточно, а вот будущее вернёт нам нашу родину. Он тогда сказал Арткину: «Мои отец и мать находятся где-то в прошлом, и если я их не помню их, то где они?» И Арткин ушёл от ответа. В конце концов, он и не мог знать всего.
Теперь Миро говорил девушке:
- Я о них ничего не помню.
На её лице было странное выражение. Что это могло быть? Печаль? Нет. Её грустный взгляд вызвал бы у него презрение к ней. Он не хотел её печали. Её взгляд говорил что-то ещё, но он не знал, как это назвать. Взгляд в её глазах был странным, будто через мгновение она могла разорваться от смеха или разрыдаться. Он был смущен. Никто и никогда на него так ещё не смотрел – так близко и так пристально. И чтобы скрыть замешательство, он сказал ей:
- Враги вторглись на нашу землю. И настали времена, когда мы не знали, кто друг, а кто враг. Везде были зарыты мины. Рогатый скот был вырезан или угнан за границу. Самолеты бросали бомбы, а пулемёты рыхлили землю. Дома были сожжены. Эниэл рассказывал, что отец с матерью подорвались на мине, зарытой в нашем саду. Кто-то ему это сказал. Но Эниэл говорил: «Нам не нужно об этом говорить. Они живут в нас, пока живём мы. Пока один из нас жив, они никогда не будут мертвы». И теперь Эниэл погиб.
- Мне жаль, - сказала она. И он снова на неё посмотрел. По её виду он не понял, о чём она жалела. Она была лишь какой-то девчонкой, притом американской, которая ничего для него не значила за исключением того, что она была его жертвой, его первой смертью. И час назад она должна была умереть. От его руки. От его пули. Кем же она была, чтобы сказать: «Мне жаль?» Только кто-то из близких может сказать такое. Даже Арткин ему такого не сказал, он лишь отвернулся из уважения.
Читать дальше