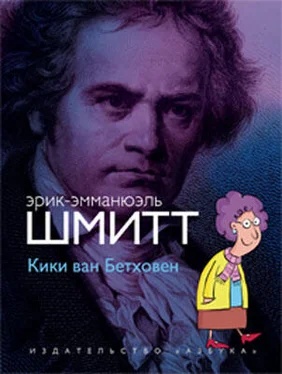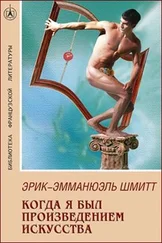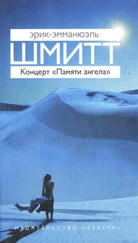Мы втроем не спускали глаз с Рашель, мы знали, что среди погибших здесь были и ее родственники.
Рашель держалась совершенно неподражаемо. Она шла впереди нас — в своем безупречном черном костюме с безукоризненной прической и макияжем — твердо, непринужденно, не теряя присутствия духа. Так владелица поместья обходит свои владения. Ни гримасы, ни жеста, выдающего волнение. Когда мы добрались до «мемориала», где были перечислены евреи, павшие жертвой нацизма, она спокойно указала нам имена двоюродных дедушек и бабушек. Там также была ее двоюродная сестра, она погибла в пять лет, и звали ее точно так же: Рашель Розенберг.
Когда мы проходили мимо тысяч пар обуви, принадлежавшей погибшим в концлагере, Кэнди остановилась перед детскими розовыми шелковыми туфельками с позолоченными пряжками.
— Представляешь, Рашель, у меня в детстве были такие же туфельки! В точности! Представь, если бы я была еврейкой…
Кэнди расплакалась, для нее эти туфли, которые она когда-то жаждала получить и потом с восторгом носила, были свидетельством невинности убитых детей. Рашель обняла ее, утешая.
Мне тоже было хреново. Эти башмачки, как ничто другое, несли отпечаток смерти. Мне казалось, что я вхожу в камеру, где высятся груды разлагающихся трупов. Что касается Зоэ, то она осталась снаружи, меж двух аллей, застыв неподвижно, глядя в серое небо и энергично нашаривая брецель в пакете.
По возвращении в автобус Рашель сломалась. Она плакала, уткнувшись мне в плечо, — медленно, тихо, почти спокойно, время от времени она шептала: «Почему?»
Вечером в отеле Рашель вошла в мой номер. Она вновь обрела свой гордый и величественный вид. Едва переступив порог, она потребовала:
— Дай мне Бетховена, я знаю, ты взяла его с собой.
Ее приказной тон заставил меня подчиниться.
Я извлекла из чемодана бетховенскую маску. Взяв ее, она уселась на мою кровать и, положив маску на колени, принялась изучать ее.
Я была уверена в том, что произойдет дальше. Рашель скажет, что после Гитлера она больше не может верить в Бетховена. Логично, ведь все нацисты преклонялись перед Бетховеном и обожали Вагнера. В те времена палачи посещали концерты и оперу, а потом вновь брались за дело: истребляли евреев. Культура не препятствует варварству, более того, она позволяет игнорировать варварство, подобно тому как духи маскируют, скрывают вонь… Поэтому для таких, как Рашель, Бетховен отдает запахом газа. А между тем Бетховен тут ни при чем: ко времени прихода к власти нацистов он уже давно почил. Но это рациональный довод, а там, где слишком много крови и страданий, рациональное уже не действует. У меня так было со спагетти карбонара… Мой первый жених однажды вечером объявил мне о своем уходе, а перед ним тогда стояла тарелка со спагетти карбонара. И вот на всю оставшуюся жизнь эти спагетти обрели для меня привкус разрыва!
Ладно, я понимаю, между расправой с миллионами людей и мной, двадцатилетней девушкой с хорошей фигурой, которая увлеклась придурком, нет ничего общего! Я вспомнила об этом, пытаясь объяснить, почему была готова к тому, что Рашель начнет осыпать Беховена оскорблениями.
Все вышло наоборот. При виде маски ее глаза медленно налились слезами.
— Ты слышишь?
— Что, Рашель?
— Слышишь, какая нежность? [6] Седьмая симфония ля мажор, ор. 92. Часть II. Allegretto.
Вся сила в замедлении темпа. Успеваешь проникнуться красотой… Проникаешься красотой мужества, надеждой, она идет издалека — возвращаясь от смерти, отрываясь от ужаса, восходя к небытию. Мужество крепнет, неотвратимо набирает силу. Вглядись в лик Бетховена, моя дорогая: он знает, что он всего лишь человек, знает, что его ждет смерть, и слышит все хуже, знает, что ему никогда не выйти победителем из схватки с жизнью, и все же он не сдается. Он сочиняет музыку. Творит. До конца. Именно так вели себя члены нашей семьи после той трагедии. Героизм состоит не в том, чтобы мстить, но в том, чтобы час за часом, день за днем отвоевывать силы жить. Почему? Почему я выжила? Тебе меня не понять, никогда. Ты просто продолжаешь жить. Ты должен жить. Это и есть мужество. Упорство, настойчивое наступление на тьму, надежда на свет в конце тоннеля. Рожаешь детей, любишь их. У них появляются свои дети, и ты любишь их. Даже если, как в моем случае, ты не способна любить. Ты слышишь маску, милая?
— Мм.
— Слушай.
Она посмотрела на меня, и в ее широко раскрытых зеленых глазах я увидела эхо Бетховена.
— Я удивлена, Рашель. Покидая концлагерь, я подумала, что из-за этой войны, из-за холокоста, из-за миллионов погибших и миллионов убийц маска Бетховена замолкла.
Читать дальше