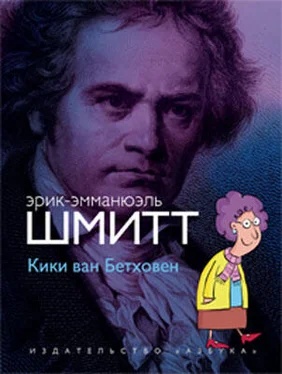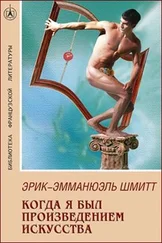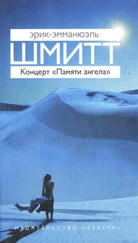— Ничего удивительного. Красота — это невыносимо. — Он изрек это как очевидную истину. — Если хочешь жить обычной жизнью, от красоты лучше держаться подальше; иначе — по контрасту — ощущаешь свою посредственность, постигаешь меру собственного ничтожества. Слушать Бетховена — все равно что примерить обувь гения и осознать, что она сделана не по твоей мерке.
— Тогда почему вы не ушли?
— Из мазохизма. Я не люблю себя, но эта нелюбовь доставляет мне определенное удовольствие. А как вам, мадам, удается переносить Бетховена?
— Не знаю. Я тоже терпеть его не могу. Но помнится, в прежние времена я находила этот тарарам великолепным.
— Ностальгия, — шепнул он, удаляясь.
Ностальгия? Нет. Гнев. Досада. Ненависть.
Вновь слушать эту музыку через сорок, пятьдесят лет — еще более жестоко, чем разглядывать себя в зеркале, поставив рядом снимок, сделанный в юности: понимаешь, до какой степени ты переменился, причем переменился внутренне. Я сделалась старой, иссохшей и бесчувственной козой; меня уже не волнует Лунная соната; я больше не плачу при звуках Патетической, да и Героическая симфония уже меня не возбуждает. Я не танцую под Пасторальную симфонию. Что касается Девятой, чья «Ода к радости» некогда казалась мне способной воскрешать мертвых и поднимать паралитиков, то ныне я воспринимаю ее как грохот, ярмарочную толчею, как лозунг объединенной Европы, как отвратительный и гротескный звуковой цирк.
Да, с тех пор как я прописала себе музыку Бетховена, во мне нарастала ярость.
— Скажи, старушка, ты можешь приглушить свою церковную музыку?
Это был юный брейк-дансер в болтавшейся на нем футболке, в штанах, чудом не спадавших с тощего зада. Мы с Ральфом и Бетховеном сидели на скамейке в парке.
— Балда, это не церковная музыка, а «Фиделио»! [5] Опера «Фиделио», ор. 72, акт I: «Mir ist so wunderbar».
— Чего?
— Сядь и прочисти уши.
— Не прокатит.
— Почему? Хорошей музыкой не испачкаешься. Разве это плевок? Я что, харкнула на тебя своим Бетховеном? На самом деле ты просто боишься, что тебе понравится.
— Ох, не наседайте!
— Вот невежа — ни черта не знает и счастлив этим. Валяй, кружись! На твоей могиле напишут: «Всю жизнь он трясся, оглушая себя идиотской музыкой».
— А ты, что напишут на твоей могиле? «Она ненавидела молодых»?
Он удрал прежде, чем я открыла рот. Зря торопился, его упрек лишил меня дара речи. Что же у меня будет за эпитафия? И в чем был смысл моей жизни?
Такие вопросы заразны… Этим вечером, за аперитивом, я разглядывала каждую из своих приятельниц, представляя себе… Я посмотрела на Зоэ, поглощавшую пирожные, и мысленно вывела: «Отныне она почиет с миром, ибо больше не испытывает голода». Посмотрела на Кэнди, с ее цыплячье-желтыми волосами, поджаренной кожей, приталенными костюмами, напоминавшими о некогда покоренных ею мужчинах и тех, кого она еще надеялась завоевать, и написала: «Наконец охладела». Посмотрела на гордячку Рашель с ее вечным снобизмом; под маской молчания та скрывала, что ни беседа, ни пирожные, ни чай недотягивают до должного уровня, и начертала: «Наконец-то одна».
— А ты?
— Что я?
— Ты ничего не говоришь, — прицепилась Рашель. — А ведь ты редко отмалчиваешься.
— Что стряслось с чемпионом страны в разговорном жанре? — воскликнула Кэнди.
— Я всегда говорила, что если Кики молчит, значит, она мертва, — уточнила Зоэ.
И вот благодаря моим милейшим приятельницам я нашла ответ. На своем надгробии я напишу: «Наконец-то безмолвна».
Спустя несколько дней я вновь сидела на своем месте, на скамейке с Ральфом, отбывая наказание Бетховеном. Следует уточнить, что я не упускала возможности покинуть свой квартал и дом. Каждый из обитателей дома престарелых занимал там крошечную отдельную квартирку со своей ванной и кухней; общими были игровая комната, где играли в карты, гимнастический зал — пустой! — и две медсестры, которые присматривали за нами. Вообще-то, здесь ухаживали за жильцами, пока те держались на ногах, но стоило кому-нибудь подохнуть, они тут же сдавали квартиру следующему. Это заведение называлось «Сиреневый дом», что довольно жестоко по отношению к чудесным цветам сирени, вовсе не заслуживающим того, чтобы их ассоциировали со старческой кожей. Если придерживаться растительных метафор, то его следовало окрестить Домом виноградной лозы или виллой Старых Пней. Лично я называю его Дом скелетов, но это никого не смешит. Впрочем, меня тоже.
Дом престарелых — это как интернат для подростков. Один в один! Живешь среди сверстников; входишь в свою тусовку и ненавидишь прочие, критикуешь одиночек; мы тоже думаем о сексе, но занимаемся им куда реже, чем говорим о нем; также действуем без ведома семьи. Единственное отличие — то, что старшими для нас являются не родители, а наши дети, считай внуки, которые приглядывают за нами и поругивают нас. Какое падение! Дети стали такими же серьезными и нудными, как некогда папаши и мамаши. «Питайся правильно, принимай лекарства, посещай занятия физкультурой, избегай опасных видов спорта, тренируй свои нейроны с помощью упражнений для развития памяти…» Вот зануды!
Читать дальше