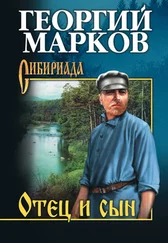«Нет, нет, – казалось, говорила она, вставая на задние лапки, пританцовывая, чтобы дотянуться до гостя, целоваться, – неужели это вы пришли к нам сегодня? Неужели именно вы? Не может быть. Какое счастье. Какая радость для всех нас. Нет, мы не перенесем этого восторга. Ну, проходите же, проходите, вот за мной, сюда, в эту комнату, на диван. Ну, давайте же поздороваемся, да нет же, обнимемся, обнимемся наконец. Какое невероятное счастье!»
И каждый уже непременно гладил ее по спинке и приговаривал: «Ой, ну что же это за собачка. Линда, Линда, хорошая, хорошая...» А если у нас бывал сбор гостей, то само собой разумеется, что каждый опускал руку, передавая ей под столом самые вкусные кусочки, только что бутерброды с икрой не передавали, а может, и передавали, кто теперь знает. Я объявляла всем строгим тоном: «Собаку не кормить». И предлагала пока ее вывести в коридор. «Давайте-ка я ее выведу», – говорила я. «Нет, нет, – восклицали друзья, – пусть она останется с нами. Мы не будем ее кормить, честное слово». Но если бы кто-нибудь приподнял скатерть, то увидел бы лес рук, ищущих под столом ее влажный нос.
Один раз она сорвалась с поводка и попала в объятия к какому-то здоровенному кобелю. У нее родились очень крупные щенки, которых назвали – Гладиатор, Геракл, Пир, и, пока их не раздали, она, осознавая себя матерью, посматривала на всех с некой степенной важностью.
Она прожила с нами всю свою обычную собачью жизнь, но то, чем она делилась с нами, в сущности, было таким человечным, таким благородным... Потому что она была, как я и говорила, небольшая, с узкой изысканной мордочкой и белым воротничком по черной, если вымыть шампунем, совсем шелковой шерсти.
В тот год, когда у нас появилась Линда, я получила третье письмо из-за границы. Из-за той самой заграницы, в которую навсегда уехала моя лучшая подруга, из-за которой меня не допустили работать в Интуристе переводчиком. «А у вас переписка, да еще с диссидентами». Мне дали от ворот поворот. И постояв на крыльце Интуриста и повторив за темным Данте: «Нель меццо дель камин ди ностра вита ми ритровай ин уна сельва оскура...», что означает: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...», я занялась чем-то другим, особо, кажется, ничем.
Алена носила челку, очки, белыми крыльями бабочки, воротничок, и на уроке литературы на предложение учительницы почитать из Пушкина не по программе единственная, кто подняла руку, и читала перед всеми: «Ночной зефир струит эфир./Шумит, бежит Гвадалквивир», слегка запнувшись на «Гвадалквивир».
Они были из дворян. В Алене было намешано много разных кровей – немецкой, польской самой высокой и достойной пробы. Их род по материнской линии происходит из древнего рыцарского замка, который имел даже свое название, «Бобровый камень», на реке Рейне. Когда генеалогическое древо их рода дало могучие ветви, одна из них зацепилась за ветку Врубелей. Как-то у них в гостях, а жили они в соседнем подъезде, на предпоследнем этаже, я впервые увидела Алениного дедушку, державшегося за столом исключительно прямо, и бабушку с гладко зачесанными волосами и небольшой бледной камеей, замкнувшей узкий пролив выреза. В присутствии дедушки все, казалось, оцепенели. Дедушка, бывший адмирал, молчал, даже и тогда, когда молчать было трудно. На вопрос детей и внуков: «Дедушка, какого хлеба вам передать, белого или черного?» – следовало молчание. Он был, как одинокий утес, на который больше не садились чайки.
Участник Русско-японской войны, адмирал Немитц, из того самого «Бобрового камня», ходил на эсминцах и крейсерах по всем морям, омывающим нашу державу. Душою знавший одну добродетель – силу флота, он остался в конце концов, в семнадцатом году, с одной лодкой, на которой и переправлял, как тот Харон по Стиксу, то Максимилиана Волошина, то Николая Гумилева, то каких-то генералов.
Алена с домочадцами, а это – мама, брат, три сестры и примкнувший к ним по судьбе одинокий дядька, которого они взяли к себе жить, переехали на Первую Мещанскую с Сивцева Вражка. На Вражке у их семьи еще до всяческих революционных подселений был собственный трехэтажный особняк с высокими филенчатыми дверями и окнами бального зала. То, что Алена родственница Врубеля, я узнала случайно после того, как у нее дома открыла альбом Врубеля. У них была прекрасная библиотека. У нас тоже была хорошая библиотека с качественными изданиями по подписке, но у Алены было особенно много книг по искусству. И что немаловажно, в их доме, без отказа, всегда давали почитать на вынос любую книгу. Могучие фолианты, стоило открыть которые – и ты встречался с «Ночью» и «Вечером» Микеланджело, «Весной» и «Поцелуем» Родена, стояли впритык на деревянных, строганных умелым дядькой полках от пола до потолка. Обычно мы рассматривали альбомы, сидя рядом на диване, терпеливо держа их на коленях, давая возможность друг дружке насладиться изображением.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу