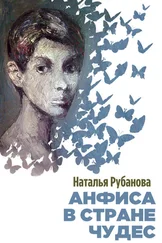Там, у очень дальневосточного человека, я сказала своему возлюбленному что-то совсем уж жуткое: «Свет звезд каплями льется в незашторенность». Что бы вы сказали, если бы девушка, ваша голая и почти протрезвевшая девушка, на чужой кухне на полу так бы вот запела? Правильно, не знаете. Он тоже не знал — он только как будто вдавливал меня глазами вниз, заставляя подчиняться. Он был груб и ласков одновременно — что-то первобытное, звериное, и вместе с тем, беззащитно-печальное и человечное, жило в нем. Я представляла себя качающейся на волнах. Там, на них-то, и жила спрятанная под тонкой кожей моя anima — и именно она проливалась возле нас; и я смущалась и краснела — будто впервые; и он не притворялся тогда, запутавшись в моем теле, ища под кожей — душу. И я снова сказала это — первой, уже под душем, мокрая и счастливая; а он замотал головой, испугавшись, растерявшись, расстроившись… И звезды погасли: рассвело, как всегда, не вовремя…
Наутро в комнате очень дальневосточного человека себя обнаружила русская дивачка: та самая, что станет совсем скоро гадать по И-Цзину и тешиться тем, что, в общем-то, «благоприятна стойкость». Та, что услышит от самой себя неожиданно-грубое и не удивится: «Хочется нассать самой себе на голову». Та, которая никогда не сможет объяснить себе — и только себе — какого такого мая она когда-то любила его… Типа.
Письмо третье
Никакое, также в виде файла
Эй, привет!
Как оно? Жизнь — это не жизнь, а смешное паскудство. Я не знаю, куда еще занесет меня; не знаю, с кем стану пить и спать завтра; я даже не спрашиваю, сбылась ли твоя мечта, ведь по слухам — сбылась! — я говорю тебе: Эня хочет уехать. Быть может, даже совсем. Эня знает много историй — ей есть, о чем рассказать калифу. Только всегда приходит тысяча первая ночь, и история заканчивается.
Чудовище! Я ушла от «второго», «третьего» и так далее. Я больше не могу-так. Кто знает, как на самом деле — надо и как на самом деле — мочь? Я всю жизнь пыталась найти какую-то несуществующую любовь, заменяя ее сахарином: всегда преследовало ощущение неправды… и голода. Тебе знакомо? А живу теперь на Мясницкой. Боже, сколько лет я мечтала о таком! И вот, получив желаемое, понимаю, что это совсем не то, о чем нужно было мечтать… Идиот, если б ты знал, как я тебя ненавижу, если б ты только знал! Что делать мне, что мне делать? Что сделать— мне? Может быть, вот именно ты и знаешь? Моя электронная книжка рябит телефонами — но почему я не могу ни в чей номер заорать черными цифрами, маскирующими плохо решенное уравнение, что я удавиться готова в этой огромной квартире? Что я даже собаку завести не могу, потому что постоянно приходится летать? Если б ты только знал, как я боюсь самолетов! Каждый раз дрожу — никакой Венеции не захочется! Впрочем, все поездки исключительно по работе, отдыхаю только в Оптиной Пустыни, милостиво оставленной «вторым»… Я все еще не уродина, и все еще скоро Новый год. Тебе не кажется, что их стало больше? И чаще? И дней рождений? Я как-то так вдруг разучилась радоваться; только не думай, что ною — нет, Эня не плачет, Эня не плачет, не плачет; Эня знает, что глупо искать смысл в любви-тем более, в любви к тебе. Хотя, может, ты изменился? Или спился? Интересно, мы увидимся? Неужели ты тогда ни черта не понимал? Неужели ты ничего не понимаешь? Я — посмейся! — немного устала жить… Звучит как в бульварном романе, правда? Знаешь, все эти вечера по обкурке «не вдвоем» — от тоски. Дивачка сегодня, как ни странно, перезвонила; я не пригласила — не уверена, что смогу полюбить, а без любви это всегда скотство. Слушай, зачем мы вообще встретились? Я не буду, не буду, я больше никогда не буду о тебе думать… о тебе может думать только ТА Эня, уже-не-я…»
Мы на Преображенке. Сто первый дубль. Очень дальневосточный человек не подходит к телефону. В девять вечера моя подруга все-таки одалживает мне ключи; от избытка чувств или гормонов я забываю их на столике, и мы с типа возлюбленным не попадаем в дверь.
— А может, домой? — неуверенно отзывается он голосом из параллельного мира.
— Ты сам-то веришь в это?
Он прищуривается, и мы, словив тачку, едем назад за ключами. Там, где я их забыла, меня встречают иронично-беззлобно: «Да ты вся светишься!»
Я пулей вылетаю из подъезда, крепко сжимая в ладонях искомое; мы снова ловим тачку; мы мчимся, чтоб… да, вот просто — ЧТОБ.
А в квартире, где до двенадцати ночи есть еще часа полтора на суку-любовь, я сажусь к нему на колени, но стул, шатаясь, не удерживается на четырех ножках и, цепляясь за подоконник, уже рушится — и мы рушимся вместе с ним, надламывая заодно карниз и сминая гардины; «никого не будет в доме, кроме сумерек…»
Читать дальше