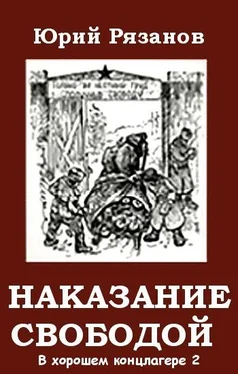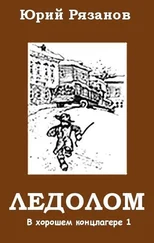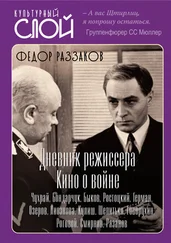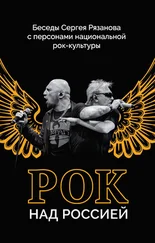Я удивлённо взирал на него: может ли такое заявить психически нормальный человек?
— А кем у тебя мама работает? — продолжал прокачку Лёха, и допрос его мне уже осточертел. Устал. Ещё не забылось пребывание в «стакане». Нервничал.
— А зачем вам это знать?
Он повертел в пальцах конверт.
— Красивый подчерк. А братовья и сестренки есь? — Я упрямо не отвечал, ожидая какого-то агрессивного действия собеседника. Может быть, и побоев. За неуважительное отношение к блатным. Это у них запросто.
— Не хочешь колоться? Ладненько…
Он перебирал немытыми, с въевшейся в поры кожи грязью, очень подвижными пальцами материнские письма, а меня распирал гнев: какой-то посторонний роется в моём чемодане, как в своём. И наверняка бегло прочитывает отдельные слова и фразы, предназначенные только мне.
— Что ли, нет у тебя чистой бумаги? — громко произнёс он. — Ладненько…
И шёпотом продолжил:
— Оторви с краю листы. Втихую!
Я оторвал несколько полосок. Мама почему-то предпочитала и для писем, и упаковки продуктов питания, которые отправляла в посылках, пергаментную бумагу. Громкое шуршание пергамента ему почему-то не понравилось. Он сделал вид, что листает «Логику», а сам свернул листы трубочкой и засунул, крадучи, под куртку.
— Книжка-то по науке?
— Школьный учебник. Для восьмого класса.
— Зачем он тебе?
— Штудирую.
— Чево-о?
— Читаю. По возможности.
— Дай почитать.
Я несколько секунд колебался.
— Не дам.
— Почему? — он был очень удивлён.
— Вы из него карты сделаете.
— В масть врезал, в масть! Шурупишь, мужичок. Ну ладненько. Тогда разверни книжку-то. Не жалко?
Получив кусок газеты, которым была обернута обложка, Лёха принялся его изучать и даже обнюхивать. И воскликнул:
— Братцы, босяки! Послухайте! Охуеть можно! «Награда Родины отважному. В далёкий мордовский колхоз имени семнадцатого партсъезда пришло радостное известие: за героизм и мужество, проявленные при тушении пожара на местной скотоферме, скотник И. Ф. Кривошеев…» Эй, Сёмка, Мордва номер два, про твоих родственников пишут…
— Ебал я таких родственников раком, — отозвался из-под нар Сёмка.
— «…попытался ценой собственной жизни вытащить из объятого пламенем строения колхозного телёнка. Обрушившаяся кровля не позволила герою выполнить свой благородный долг перед Родиной и государством. Высокая награда вручена родственникам героя». Во, бля! Падлы, чо написали! Это хоть што за газета? «Правда», што ли? Позорники! Мужик по глупости или спьяну в огонь полез, можбыть, ёбнуть чего хотел под шумок, для дома, для семьи, а краснопузые ему героя прилепили. Да на хуй ему пёрнул тот телёнок колхозный? По мне лично, бля, пущай хочь все колхозы сгорят! Я ещё в огонь керосинчику плесну…
— А ежели фраер был большевик? — подыграл кто-то Лёхе.
— Туда ему и дорога, падле. Мякины ему краснопузые натолкали в котелок, вот он и полез, пропадлина, колхозное имущество спасать. И поджарился вместе с тем телёнком. Один скот подох за другую скотину. Безрогий — за рогатого. Да обои они… твари поганые.
Лёха с наслаждением издевался над погибшим и над самым святым — нашим социалистическим строем. И я, прочитав ту заметку, именно героическим посчитал поступок отважного колхозника — ведь он общественное, народное спасал, а не своё личное!
Долго ещё глумился над погибшим Лёха, и мне стало мучительно и оскорбительно слушать его: он всячески поносил не только бескорыстный порыв человека с высокими моральными качествами, но и большевистскую партию, правительство и даже самого Иосифа Виссарионовича! Он, подумать только, назвал его Усом и Паханом! Как свою ровню! Да он сумасшедший, этот Лёха! От злобы рехнулся.
Наконец его гнусная хула наскучила многим, и Лёху урезонили:
— Кончай, Обезьяна, выступать. Остохуело.
Но он далеко не сразу прекратил ругань, которая мне казалась бредом, — ведь такого я не слышал никогда за свои двадцать лет.
Всё ещё ошарашенный немыслимым потоком брани в адрес самого Хозяина, я не обратил внимания на то, что возле меня остановился тот фиксатый с круглой кошачьей физиономией.
— Ты чего у параши валяешься? Канай, мужик, на нары, места всем хватит. Или какой грешок за собой чувствуешь?
— Во-первых, параша по другую сторону. Во-вторых, мне и здесь неплохо. В-третьих, надзиратели предупредили, чтобы я постоянно у порога находился, — меня в любой момент могут отсюда дёрнуть. Я тут временно, без постановления. И к твоему сведению: я за собой ничего не чувствую, никаких грехов.
Читать дальше