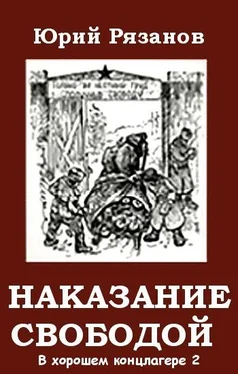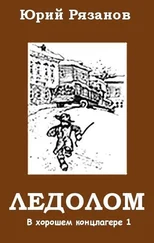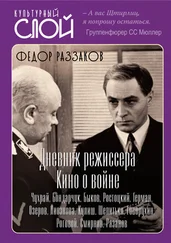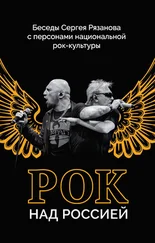Как только моё прошение легло на кучу ему подобных, для меня началась другая жизнь — приятное ожидание чего-то почти чудесного. Нет, я безмятежно верил, что положительный ответ, то есть помилование, вполне вероятно, ибо логично. Поскольку ограничений на написание подобных «док.» начальством не установлено, я прикинул: буду отправлять прошения раз в неделю. Положим, один нерадивый сотрудник положит в долгий ящик моё послание, а вот оно, следующее, подоспело. В конце концов, не первое, не пятое, а десятое, двадцатое, пусть, к примеру, двадцать седьмое, но на стол Клименту Ефремовичу попадет. Как тот зек рассказал: только сто какое-то дошло до самого Ворошилова. Пробилось-таки. Прошибло все преграды. Поэтому главное — не терять надежды. Хорошие люди везде есть. Их больше, чем плохих. Иначе, правильно говорят, человечества уже давно не существовало бы. На хороших и буду надеяться. А чтобы досрочно освободиться, с моим-то сроком, надо двужильным родиться. И ломить за двоих. А так у меня пока не получается. Но наши вожди — добрые люди, гуманные. Они поймут. И помогут попавшему в беду по своей доверчивости, неопытности, простоте и «благодаря» истязаниям, которым меня подвергли в милиции.
С того времени я даже повеселел. Регулярно, через неделю, в Москву, в Кремль, уходило моё честное и полное благостных намерений и надежд откровение.
К февралю следующего, пятьдесят третьего, я достаточно окреп и, хотя все ещё надеялся на положительный ответ из Москвы, намеревался из дневальных перейти в плотницкую бригаду. В ней умелые мужики собрались и хорошие проценты выколачивали ежемесячно. У меня с бригадиром разговоры велись. Давненько. Обнадёживающие.
Однажды у кипятилки в очереди я встретился с земляком, если только он не лукавил, странным и даже загадочным человеком, дневальным штабного барака Андреем. О нём в лагере никто ничего толком не знал: кто он, кем на воле был и тэдэ. Болтали же всякое. Больше — плохое. О связях его с опером, например. Но едва ли это была правда. Впрочем, кто его знает. Но ко мне Андрей относился приветливо. Иногда мы курили, не спеша болтали о том о сём — о житейском. А тут он меня пригласил: приходи вечерком, подымим. Табачок — крепачок. Недавно посылку получил с Урала. Чайку попьем.
Я не заставил себя дважды упрашивать. Барак Андрей содержал в образцовом порядке. Когда его покидал последний офицер, дневальный запирал внешнюю дверь, распахивал кабинеты, выносил мусор, вытирал пыль, мыл полы и всё это делал очень тщательно. После, при холодной погоде, растапливал печи. Утром начальство приходило в чистые и тёплые помещения.
Застал я Андрея за уборкой. И помог ему в этой для меня привычной «грязной» работе. Потом мы растопили уже заправленные дровами печи, причём в одну топку попали отсыревшие поленья. Они недолго тлели и погасли. Андрей ключиком отпёр один из стенных коридорных шкафов, вынул из него кипу каких-то бумаг и стал подсовывать их под поленья. Оставшиеся листы положил на угольный ящик возле поддувала. Вдруг я разглядел, что верхний лист — моя просьба о помиловании!!! Глазам своим не поверил! Взял в руки — точно! К тому же, ещё январское.
— Это ж моё прошение, — произнёс я сдавленным голосом.
Андрей глянул на меня, на лист, помолчал, подпалил растопку и закрыл дверцу.
— Да, земеля, — только и нашёл что сказать он.
— Как же так? — завёлся я. — Прошение давно должно уйти в Верховный Совет, а ты… им печку разжигаешь.
Андрей затянулся посылочным табачком и мне предложил:
— Закуривай, земеля. Охолонь.
— Не хочу, — ответил я, хотя именно в этот миг мне требовалось затянуться да поглубже.
— Понимаешь, земеля, какая канитель получается: жалоб этих, заявлений и прочей писанины, миллионы…
— У меня-то — не писанина, а — о помиловании…
— Если все эти миллионы и миллионы бумаг в Москву отправлять — поездов не хватит.
— Ну допустим. Хотя… Могло бы начальство нам вот так объяснить? А то, как дурак, надеешься…
— Видишь ли, объясни тебе, а ты завтра сбежишь. Или ещё чего в отчаянии отчебучишь. А так — написал, опустил и ждёшь. И всё в ажуре.
— Какой подлый обман!
Земеля мудро безмолвствовал, а я читал старательно выведенные мною строчки. И мне жарко стало от стыда за свою глупость, легковерие и наивность. Что клюнул на байку того болтуна.
— Один зек рассказывал мне, что его товарища, вместе в одной бригаде вкалывали, помиловали. Вот так же прошения писал, и одно дошло. Врёт, наверное?
Читать дальше