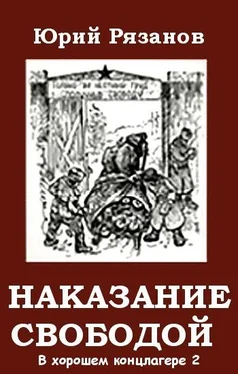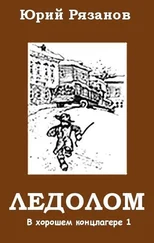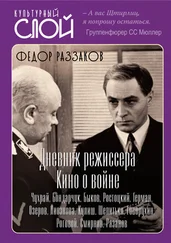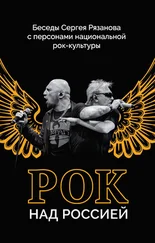— Что сожгли?
— Газету, — не моргнув глазом, солгал я.
— Зачем?
— Чтобы не так воняло парашей.
Надзиратель долго изучал мою физиономию, видимо, врал я не очень убедительно. Но больше ни о чём не спросил. И молча вышел в коридор, где у дверей камеры высился другой вертухай, страховал напарника.
Вернулся в камеру Костя полураздетым.
— С-с-уки! Уд-д-а-вить вас всех!
Эти слова резанули мой слух. Промелькнула трусливая мыслишка:
«Всех. И меня — тоже? Я ведь тоже — фраер. Но я тут причём?»
Одна расправа за другой: то со мной, то с этим гнусным Kюхнером. Они вышибли меня из душевного равновесия. То, что я невиновен, не давало мне уверенности и спокойствия. Беззащитность держала меня на грани отчаянья. Но мне всё же удалось овладеть собой.
Костя свернул толстую цигарку, закурил. Протянул мне кисет.
— Не хочу, спасибо, — сказал я. — И без курева тошно.
Повернувшись спиной к волчку, Цыган принялся набивать табак в шов полы пиджака. Покончив с этим делом, сел на койку желтоглазого, упёрся затылком в стену, прикрыл глаза, будто задремал, и ухитрился незаметно для надзирательского ока отстучать какое-то сообщение в смежную камеру. Я посетовал, что не знаю азбуку Морзе. А может, и к лучшему. Меньше знаешь — меньше рискуешь. Так сказал один зек в двадцать седьмой. Тюремная мудрость!
Опять сверху раздался голос, похоже, Жирного, однодельца Кости, вызывавший Цыгана. Неведомый мне корреспондент сообщил, что оба «выпрыгнувших» — «наседки». А «молодяк» — просто фраер. Последнее определение относилось ко мне. Оно успокоило.
Потом мы беседовали о том о сём. Я рассказал, как меня на крюке подтягивали.
— П-пиши п-прокурору п-по надзору, — посоветовал Цыган. И тут же добавил: — Нн-ет. Нн-е нн-а-а-до. З-з-а-аморят г-гады.
Я прислушался к совету старого вора. И вероятно, — убийцы. И поведал, что сидел в одной камере с Толиком, видел, как чудесно он танцевал. Цыган сказал, что знает обо мне всё. И, волнуясь, сообщил об обстоятельствах гибели однодельца. Заикался Цыган заметно меньше. Иногда речь его лилась плавно, без задорин.
Вечером мы пили чай, и Костя угостил меня халвой. По вкусу она не отличалась от той, которой мы лакомились у Серёги. И за которую я оказался в этой камере. Мне стало не по себе. Тошнота подступила к горлу. А Цыган ублажал себя не только халвой, но копчёностями и солёностями. Отобранными у таких, как я.
Мне вдруг показалось, что всё происходящее вокруг меня и со мной — сон. Невероятный сон наяву. Начавшийся в Серёгиной хатёнке февральским морозным днём.
И я с безысходной тоской одиночества и с затаённой, пока ещё теплящейся надеждой на что-то неизвестно что подумал: когда же, наконец, он кончится?
Белые туфельки
На улице дождик, и слякоть бульварная
Тонкими иглами душу гнетёт.
Девушка бледная в беленьких туфельках,
Словно шальная, по бульвару бредёт.
На улице дождик, обуть было нечего,
В белых туфлях на бульвар вы пошли.
Ножки промокли, и вы простудилися,
А уж наутро в больницу слегли.
Белые туфельки вам были куплены
За нежные ласки богатым купцом.
И в этот же вечер стройными ножками
Вы вальс танцевали, кружили кольцом.
Теперь вы лежите совсем непохожая,
Белые туфли стоят возле вас.
Белые туфельки, белое платьице,
Белое личико, словно атлас.
Радуйся, девочка, радуйся, милая,
Что ваша смерть так рано пришла.
Вас засосала слякоть бульварная.
Вся ваша жизнь в белых туфлях прошла.
1950, начало июня
«Зелёных» выгружают! Целый состав! Из Берлина! Такие слухи разнеслись по пересылке мгновенно. И едва ли не весь лагерь повылез взглянуть, как из скотских вагонов, загнанных в тупик возле самой зоны, выскакивают под насыпь люди в форме защитного цвета — с вещмешками, мешками-«сидорами», альпинистскими рюкзаками, баулами, узлами и огромными «гробами-чемоданами». По определению авторитетных чемоданных знатоков с бана, [32] Бан — железнодорожный вокзал (воровская феня).
специалистов по «верчению» этих самых «гробов».
Обилие вещей — почти у каждого что-то было в руках — вызвало ликование блатных и мелкой шушеры, вившейся и подкармливавшейся возле них. Они уже торжествовали, предвкушая предстоящий шмон, расказачивание под видом справедливого дележа и грандиозную карточную игру.
Я тоже вышел из просторного сарая, не знаю, как точнее назвать то специфическое сооружение, в которое нас загнали. Впрочем, начальство определило эти дощатые халабуды с брезентовыми крышами и земляными полами как сезонные бараки. Зеки же окрестили их «сезонками». В них мы и ютились в ожидании отправки куда-то, где нужда в рабсиле, то есть в рабах. Могли загнать, куда угодно. Возможно, на самый край земли. Советской, ещё не освоенной зеками земли. Концлагерь так и назывался — пересыльный. Одновременно в него вмещались от десяти до пятнадцати тысяч зеков. А если уплотнить, то во много крат больше. Причём этот сортировочно-перевалочный пункт разворачивали только в тёплое время года, когда открывалась навигация по великой сибирской реке, по которой и отправлялись многочисленные баржи, гружённые «контингентом», на большие и мелкие стройки коммунизма. А его возводили везде.
Читать дальше